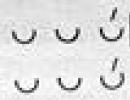Культурно-историческая обусловленность возникновения предметного поля «телесность. Чувства и эмоции как феномен повседневной культуры Культурная и историческая обусловленность эмоций
Книга филолога Андрея Зорина «Появление героя» посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII - начала XIX века. Это было время конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В продолжение с премией «Просветитель» T&P публикуют отрывок из книги Зорина о том, как индивидуальное человеческое переживание стало предметом изучения историков.
Андрей Зорин
Доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета, РГГУ и РАНХиГС. Член редколлегий журналов «Новое литературное обозрение», «Slavic Review», «Cahiers de Monde Russe».
Индивидуальное переживание как проблема истории культуры
Взаписной книжке 1933–1935 годов Лидия Гинзбург говорила об «однородности» задач «историка» и «романиста», призванных «объяснять одни и те же факты, только взятые в разных масштабах». Она искала метод исторического анализа, который позволил бы двигаться «от рассмотрения огромных массовых движений до все умельчающихся групповых формаций; и вплоть до отдельного человека», включая самые интимные стороны его внутренней жизни (ОР РНБ. Ф. 1377. Записная книжка VIII-2. Л. 37–38; цит. по: Van Buskirk 2012: 161). Сразу после этого рассуждения в записной книжке помещено эссе под названием «Стадии любви» (Гинзбург 2002: 34).
Гинзбург сама назвала свои требования к исторической науке эксцентричными. Конечно, историки, в особенности работавшие в биографическом жанре, и раньше нередко рассуждали о побуждениях и мотивах своих героев, и все же на такого рода догадках неизбежно лежало подозрение в недостаточной научности или даже беллетристичности - изображение переживаний давно умерших людей традиционно составляло прерогативу изящной словесности. Еще Ницше в «Веселой науке» сокрушался, что «все то, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости?» (Ницше 2003: 173). Именно в 1930-х годах, когда Гинзбург формулировала свои идеи, европейские историки начали закладывать основы новой дисциплины.
В своем монументальном обзорном труде «История и чувство» Ян Плампер утверждает, что «у истоков истории эмоций стоял один человек - Люсьен Февр» (Plamper 2015: 40; ср.: Reddy 2010). Действительно, если Ницше лишь вскользь заметил, что человеческие страсти сами по себе имеют историю, то Февр в статьях «Психология и история» (1938) и, в особенности, «Чувствительность и история» (1941) попытался дать развернутый ответ на вопрос, «как воссоздать эмоциональную жизнь прошлого». Ключом к пониманию внутренней жизни людей минувших эпох была для него «заразительность» эмоции. По Февру, эмоции «зарождаются в сокровенных недрах личности», затем, в «результате схожих и одновременных реакций на потрясения, вызванных схожими ситуациями и контактами», они «обретают способность вызывать у всех присутствующих посредством некой миметической заразительности» сходный «эмоционально-моторный комплекс» и, наконец, благодаря «согласованности и одновременности эмоциональных реакций» «превращаются в некий общественный институт » и начинают «регламентироваться наподобие ритуала» (Февр 1991: 112).
Взгляды Февра на роль эмоций в истории были во многом противоположны тем, которые исповедовал Ницше. Ученый полагал, что в «развивающихся цивилизациях» происходит «более или менее постепенное подавление эмоций активностью интеллекта» (Там же, 113). В те же годы Норберт Элиас в своей книге «О процессе цивилизации» описал возникновение европейской цивилизации как становление практик контроля над проявлениями эмоций (см.: Элиас 2001). Концепции Февра и Элиаса были в значительной степени связаны с реакцией на нацизм с его, по словам Февра, «возвеличиванием первозданных чувств», которые «ставились выше культуры» (см.: Plamper 2015: 42–43 и др.).
Свою теорию «ментальности» Февр разработал с опорой на труды современных ему этнологов (см.: Гуревич 1991: 517–520). Заявленный им подход к истории чувств и переживаний также был первоначально реализован не в собственно исторических, но в этнологических, или, как их принято называть в англо-американской традиции, антропологических исследованиях. Решающую роль в этом процессе сыграли начавшие публиковаться в конце 1960-х - начале 1970-х годов работы Клиффорда Гирца, родоначальника так называемой интерпретативной (он также называл ее «семиотической» и «герменевтической») антропологии, который видел задачу антрополога в том, чтобы «приобрести доступ к категориям миропонимания изучаемых людей», понять смысл и значение, которыми они сами наделяют свое поведение. Как и Февр, Гирц полагал, что ученый способен судить о чувствах тех, о ком он пишет, поскольку сами эти чувства носят межличностный характер.

При этом, если Февр считал, что эмоции зарождаются в «сокровенных недрах личности», а распространяются «посредством некой миметической заразительности», американский антрополог был убежден, что сама способность человека чувствовать так, а не иначе определяется культурой, которой он принадлежит. По ставшей сенсационной формулировке Гирца, «наши идеи, наши ценности, наши действия, даже наши эмоции, так же как и сама наша нервная система, являются продуктами культуры» (Гирц 2004: 63; о реакции на это высказывание см.: Wierzbicka 1992: 135). По мысли Гирца,
чтобы принимать решения, мы должны знать, что мы чувствуем по поводу тех или иных вещей, а чтобы знать, что мы чувствуем по их поводу, нам нужны публичные образы чувствования, которые нам могут дать только ритуал, миф и искусство (Гирц 2004: 96).
Еще резче сформулировала эти идеи ученица Гирца Мишель Розалдо, писавшая в своей нашумевшей статье «К антропологии личности и чувства»:
Чтобы понять личность, необходимо понять культурную форму. Мы никогда не узнаем, почему люди чувствуют и поступают так, а не иначе, пока не отбросим повседневные представления о человеческой душе и не сосредоточим свой анализ на символах, которые люди используют для понимания жизни, символах, которые превращают наше сознание в сознание социальных существ (Rosaldo 1984: 141).
Во внутренний мир человека иной культуры оказывается возможным заглянуть именно благодаря тому, что сам этот внутренний мир представляет собой коллективное достояние. Такая постановка вопроса, по словам Гирца, переносит анализ проблематики, связанной с эмоциями, «из сумеречной, недоступной сферы внутренних чувств в хорошо освещенный мир доступных внешнему наблюдению вещей» (Гирц 1994: 113). Эмоции, с одной стороны, оказываются доступны наблюдению исследователя, а с другой - становятся значимым фактором исторического процесса.
*Всплеск исследовательского интереса к эмоциональной жизни, получивший впоследствии название «аффективный поворот» (см.: Clough, Halley 2007), захватил в 1970–1980-х годах не только антропологию и культурную историю, но и психологию (см.: Frijda 2007: 1), нейрофизиологию, социологию, лингвистику (см.: Plamper 2015: 98–108, 206–250 и др.) и даже экономику.
Только в 1980-х годах такой подход вернулся в историческую науку (обзор основных работ по антропологии эмоций см.: Reddy 2001: 34–62; по исторической антропологии: Берк 2002; см. также: Гуревич 2002 и др.), приведя к становлению дисциплины, получившей название «история эмоций» (см.: Burke 2004: 108)*. Именно на достижения антропологов опирались американские историки Питер и Кэрол Стирнз в статье 1985 года «Эмоционология: проясняя историю эмоций и эмоциональных стандартов», которая, как принято считать, подвела итоги первого, бессистемного периода в истории этой научной дисциплины и заложила теоретические основы ее последующего развития (см.: Plamper 2015: 57–59). Как подчеркивают авторы,
все общества имеют свои эмоциональные стандарты, пусть часто они не становятся предметом обсуждения. Антропологи давно знают и изучают это явление. Историки также все больше осознают это, по мере того как мы понимаем, что эмоциональные стандарты постоянно меняются во времени, а не только различаются между собой в пространстве. Изменения в эмоциональных стандартах многое говорят и о других социальных изменениях, а могут и способствовать таким изменениям (Stearns & Stearns 1985: 814).
Стирнзы различают принятые в обществе «эмоциональные стандарты» (emotional standards), т. е. предписываемые человеку нормы реакции на те или иные события, и реальный эмоциональный опыт (emotional experience). С их точки зрения, именно с изучения эмоциональных стандартов, которое они назвали «эмоционология», должно начинаться исследование по истории эмоций. Только в этом контексте становится понятным частное выражение эмоций. Соавторы признают, что во многих случаях источники просто не позволят исследователю продвинуться дальше эмоционологии, но считают, что анализ норм и регуляций может оказаться продуктивным и сам по себе (см.: Stearns & Stearns 1985: 825–829).

Попытку перейти от изучения «эмоционологических» норм к групповым эмоциональным практикам предприняла Барбара Розенвейн, предложившая в своей вышедшей в 2006 году монографии об эмоциональной культуре раннего Средневековья идею «эмоциональных сообществ». По ее определению, такое сообщество составляют «люди, приверженные единым нормам выражения и наделения ценностью (или обесценивания) сходных или взаимосвязанных эмоций». Розенвейн выделяла сообщества «социальные», где единство норм, регулирующих эмоциональную жизнь их участников, определяется сходством условий их существования, и «текстуальные», основанные на общности авторитетных идеологий, учений и образов. Исследовательница также отмечала, что один и тот же человек может входить одновременно в самые разные как социальные, так и текстуальные сообщества (Rosenwein 2006: 2, 24–25), порой предлагающие ему не совпадающие между собой системы норм и ценностей.
Поведение индивидов и целых групп, поставленных перед необходимостью ориентироваться в требованиях и предписаниях различных эмоциональных сообществ, было проанализировано Уильямом Редди в монографии «Навигация чувств», которая вышла в 2001 году, накануне событий 11 сентября, оказавших, как отмечает Плампер, существенное воздействие на развитие дисциплины (см.: Plamper 2015: 60–67, 251–264). Еще Стирнзы поставили вопрос о необходимости сочетать в анализе эмоций биологические константы с культурными переменными (см.: Stearns & Stearns 1985: 824). Редди развил оригинальную модель такого сочетания, проанализировав как антропологические, так и психологические подходы к эмоциям и предположив, что любое выражение чувств представляет собой более или менее адекватный перевод универсального опыта на язык действующей культуры. Для специфических слов и выражений, в которых этот перевод осуществляется, ученый предложил термин «эмотивы» (см.: Reddy 2001: 63–111).
*Эта динамика смены эмоциональных режимов разительно напоминает – скорее всего, помимо намерений автора – идею о «канонизации младших жанров», некогда предложенную Шкловским и Тыняновым, с чередованием «старшей» и «младшей» линий на основной магистрали литературного процесса и уходом временно оттесненной традиции на периферию, главным образом в сферу домашней словесности (см.: Тынянов 1977: 255–269).
Кроме того, Редди поставил вопрос о политической сущности принятых эмоциональных стандартов и норм и причинах их смены. С его точки зрения, любая устойчивая власть навязывает своим подданным специфический «эмоциональный режим» (emotional regime), т. е. набор нормативных эмоций, реализующийся в официальных ритуалах и практиках и системе соответствующих «эмотивов». Такой режим неизбежно окажется в большей или меньшей степени репрессивным и будет причинять индивидам «эмоциональные страдания» (emotional suffering), побуждающие их искать «эмоциональные убежища» (emotional refuge) в отношениях, ритуалах и организациях, где они могут дать выход официально не санкционированным чувствам. При определенных обстоятельствах эти убежища могут приобрести популярность и создать основу для нового «эмоционального режима», который, в свою очередь, потребует новых «убежищ» (см.: Ibid., 112–137, особенно с. 128–129)*. Ни природы имманентной репрессивности «эмоциональных режимов», ни причин возникновения у человека потребности в убежищах Редди не обсуждает, возможно полагая их само собой разумеющимися.

*Интересно, что в недавней работе Ян Беркитт критиковал Редди со строго противоположной позиции – за внимание к индивидуальному характеру эмоций и недооценку их реляционной («relational») и политической природы (см.: Burkitt 2014: 42–45).
На наш взгляд, продуктивность модели, предложенной исследователем, ограничена его сфокусированностью на сфере политического, делающей противопоставление «эмоциональных режимов» и «эмоциональных убежищ» во многом механистическим*. В итоге его программа анализа уникального эмоционального опыта личноститак и осталась до конца не реализованной. Многочисленные примеры, которые разбирает Редди, утрачивают свою специфичность и оказываются призваны иллюстрировать фундаментальные закономерности более общего порядка.
Первоклассный обзор Яна Плампера избавляет нас от необходимости более подробно останавливаться на истории дисциплины и ее связях со смежными науками (см.: Plamper 2015; впервые: Plamper 2012; краткая версия на русском: Плампер 2010; см. также: Rosenwein 2002; Reddy 2010; Matt 2011 и др.). Если обсуждать эту историю с точки зрения задач, поставленных Л.Я. Гинзбург, то следует отметить, что за последние десятилетия ученые превосходно овладели искусством «доходить до все умельчающихся групповых формаций». Однако цель дойти до эмоционального мира «отдельного человека» остается пока, на наш взгляд, в значительной степени недостигнутой.
Иллюстрации: © iStock.
Пытаясь браться за изучение любви и писатели, и учёные чаще становились на описательный путь. Любовь как сугубо человеческое, а значит и общественно-данное чувство, редко поддавалась глубокому анализу как со стороны теоретиков, так и со стороны романистов – точнее, не давала себя рассматривать в приближении большем, нежели феномен. Вывести любовь из общественных отношений, и может даже создать некую историческую периодизацию любви, при этом, удавалось лишь исследователям социал-демократического направления: Энгельсу, Бебелю, немного Каутскому, гораздо успешнее, хоть и ближе к агитпублицистике, – Коллонтай, и немногим другим.
Обусловленность любви – вообще нелюбимая тема в культурах. То есть, влияния на это чувство, конечно же, описываются богато: и в литературе, и в психологии, и уже в совсем специальной сфере семейных консультаций. Однако даже в самых научных заключениях любовь либо остаётся за рамками непосредственно констатирующей части, либо же о ней говорят как о чём-то настолько неуловимом, что должно быть понятно лишь тем, для кого пишутся заключения.
Здесь для классического фрейдиста, например, может просвечивать болезненное отношение общества к любви как понятию – настолько либо содержательному, либо расплывчатому, что лучше о нём не говорить, не углубляться. И, наоборот, – учить тут тоже невозможно. Высмеянный повсеместно и быстро изъятый из программ школьный предмет перестроечной поры «Основы семейной жизни» тому примером. А в обыденном сознании сейчас в этом вопросе расхожа формула «любовь — это дар божий». Всё, тут и не о чем, получается, говорить. Бог дал, бог взял… Сюда же прибавляется вневременной ореол – любовь оказывается в этом мифе вечным камертоном, лишь по-разному в различных акустиках веков звучащим. Что-то этим мифом угадывается – ведь не пресёкся же род людской, и не без удовольствия себя он продолжает, но ведь всегда интересно, с чем содержательно связан этот «биологический минимум».
Увы, со времён Александры Коллонтай практически никто серьезно не ставил этого вопроса в историческом и, тем более, классовом разрезе – то есть, связывая «возвышенное чувство» с такими низменными понятиями как социально-экономическая формация, товарно-денежные отношения и пр.
Важное, что надо тут уяснить: как раз-таки самое «вечное» в любви отнюдь не самое возвышенное, а, скорее, наоборот. Но за этой неожиданной инверсией кроется вовсе не разочарование в понятии: человечество потому и ищет всё новые определения любви и счастливые формулы отношений, что всякий раз, как в дроби, меняет лишь числитель при том самом, «минимальном» знаменателе.
Если именно с этой стороны взглянуть на любовь как понятие сугубо историческое и отнюдь не вечное, можно сразу же обнаружить пугающую ясность большинства семейных неурядиц: в них должны отражаться текущие и присущие именно данной формации проблемы, классовые динамики и даже (о, ужас) классовая борьба. Мало кто способен именно так, сходу, взглянуть на любовь и семейную жизнь, но – не всё сразу, даже к теории требуется привыкание. Не будем обо всех веках, возьмём лишь двадцатый и наш, начавшийся.
Кто, как и когда завоёвывал любовь для масс
Коллонтай, увы, походя и даже небрежно пишет о любви в условиях гражданской (то есть именно открыто классовой) войны. Впрочем, в том ритм манифеста. Гражданская: война за будущее, тектонические сдвиги классов, плита на плиту, великое смешение социальных пластов во имя равенства… С одной стороны здесь открывался простор для неожиданных знакомств, с другой – и тут Александра Михайловна точна как учёный, — просто не было времени на все прежние церемонии.
«Классу борцов в момент, когда над трудовым человечеством неумолчно звучал призывный колокол революции, нельзя было подпадать под власть крылатого Эроса. В те дни нецелесообразно было растрачивать душевные силы членов борющегося коллектива на побочные душевные переживания, непосредственно не служащие революции. Любовь индивидуальная, лежащая в основе «парного брака», направленная на одного или на одну, требует огромной затраты душевной энергии. Между тем строитель новой жизни, рабочий класс, заинтересован был в том, чтобы экономно расходовать не только свои материальные богатства, но и сберегать душевно-духовную энергию каждого для общих задач коллектива. Вот почему само собою произошло, что в момент обостренной революционной борьбы место всепоглощающего «крылатого Эроса» занял нетребовательный инстинкт воспроизводства — «Эрос бескрылый» .
Собственно, «солдатская любовь», о которой и говорит прежняя дворянка, – и есть одно лишь продолжение рода, без этапа ухаживаний, обещаний, планирований и воспитания детей. В общем, нехватка времени — вот генеральный тут фактор. Завтра – в бой с классовым врагом, сегодня – экспресс-любовь, чтобы хоть в детях, а дотянуться до светлого будущего, за которое завтра пойдёшь отдавать жизнь. «И живу я на земле доброй за себя и за того парня» — хочется ответить Александре из этого самого завоёванного будущего словами Р.Рождественского на стартовую часть манифеста пролетарского Эроса. Однако подозревать каждого красноармейца в столь высоких помыслах было бы наивно – это и была дробь с минимальным числителем. Военно-коммунарские отношения полов того периода хорошо отображены в фильме «Комиссар», на контрасте с местечковыми, счастливыми в рамках уцелевшего мирка-хуторка принудительно приютившего героиню Мордюковой еврея (гениально роль исполнил Ролан Быков)…
Воевали красные, конечно же, за большее – в широком смысле за экспроприацию той, прежде лишь в бальных залах и дворянских имениях проживавшей любви, которая и отражалась щедро элитарной же литературой. Вот откуда начинается критика понятия любви – уже новым обществом. Война гражданская на данном отрезке социального бытия шла именно за время. Имелось ли оно до революции у рабочих – на любовь? Здесь нам отвечает Максим Горький самым началом романа «Мать» — гулянки обречённых на пьянство и потогонку безвластных пролетариев подразумевали любовь лишь как следствие заработка и как возрастной этап. В общем, привычка быть битой у той, кто по идее должна быть любимой, у венчанной по православному обряду и под страхом господних кар для жениха оберегаемой – вот дореволюционная любовь… Схлопнувшееся, скраденное время самой непосредственной любви (из «минимальной» хоть в новобрачный период должной стать максимальной), сменяющейся родами и хлопотами. Да, этот самый лживый, душный, безысходный мирок и стал инкубатором революции, тут спора быть не может.
И всё же – знал ли пролетарий за что борется в данном конкретном вопросе? «Чтоб как у господ» — нет и ещё раз нет. Чтобы гораздо лучше – без пережитков и пошлостей. Об этом постоянно напоминал Маяковский, больно щёлкая даже Есенина и поэтов его круга за выбор подруг в соответствии с платьями да платочками, за рудименты мещанства. Вот тут и пришло время манифестов, а также попыток экспроприировать не только время у свергнутых классов, но и «душевно-духовные» (Коллонтай) завоевания их прежних времён. Наступал этап неоклассицизма, надстраивающегося на конструктивизме – не только в архитектуре. Оголённая классовая структура требовала, желала, даже, пожалуй, и вожделела видеть себя красивой – иначе и революция была зря.
Свободное время – вот козырь любви дореволюционной. Миллионы рабочих лишались этого времени, загонялись в клетушки и подвалы со своими семьями, удушались религиозными дымами – ради черпания ковшом прибавочной стоимости их времени в денежном эквиваленте. Господа имели уйму времени на любовь и на описания связанных с ней событий, препятствий. Жизнь становилась интереснее, когда случалась межклассовая любовь – тому посвящено большинство последних дореволюционных романов. И так наступала новая эпоха: в предвосхищении, в покаянии и декадансе прежних господ.
Оказалось, что такое интимное (и т.д.), то есть совершенно субъективное чувство, как любовь – тоже пришлось отвоёвывать массами и с винтовкой в руках. И целому поколению пришлось отказаться от тех «наслаждений», переживаний, от всей эмоциональной любовной палитры, что имели свергнутые ими господа, поскольку процесс их изгнания затянулся на годы и растянулся до Крыма. Без высокого альтруизма тех «низменно» любивших по походному минимуму это было бы невозможно: без той свободы, что в бою становилась осознанной необходимостью, погибнуть во имя грядущих свобод. Немногим поколениям выпадала такая миссия – и вот, право любить было завоёвано. Просто как мирное пространство, экспроприированное в 20-х, инфраструктурированное в 30-х.
Коридоры и коммуны новых чувств
Ленинский декрет, по которому живут даже свергающие его памятники государства – это не только отпуск по уходу за ребёнком, это и детсады, за которые боролась та самая (по Луначарскому – вторая и последняя после Ленина истинная коммунистка) Коллонтай. Снова – время! Время, даруемое обществом родителям для прерванной неизбежными хлопотами любви. Ведь новое общество мудро: оно поощряет пары на новые генные подвиги, общество хочет расти и не ставит препон, какие были при прежней формации, не только финансовые, но и коммунальные. Социалистическими законами предусмотрено пропорциональное росту семьи разрастание жилплощади. Более конкретного гуманизма в истории ХХ века не снискать – во всеобщих для СССР и соцлагеря масштабах, отметим. Демонтировать данный институт не смогла ни одна контрреволюция – даже в нынешней единой ФРГ, о чём я знаю точно. На фоне общего провисания бывших территорий ГДР по экономическим показателям, молодые родители предпочитают переселяться в те экс-социалистические районы и города, где остались щедро понастроенные в 1960-80 гг детсады, поскольку на территории прежней-соседней ФРГ с этим гораздо хуже.
Если право на любовь прежде завоёвывалось через классовую ненависть, то после окончания прямой стычки классов и систем – настало долгожданное затишье. И вместе с ростом, техническим, моральным, культурным, советского общества, менялись и стандарты любви. Менялась та самая, содержательная часть, что была прежде схлопнувшейся в рабочих клетушках и крестьянских избушках – в последних, кстати, любовь и вовсе не подразумевалась, а решалась как деловой вопрос сватами. А ведь рабоче-крестьянская армия, надо полагать, боролась и за право парней и девчат насмотреться друг на друга, а не жениться на «котах в мешке» и не жить в каменных мешках, любить впотьмах и т.д. Отвоёвывалось вместе со временем – право любования (тут мы поставим *, которую далее раскроем уже в связи с этим, этапным термином). От прежнего фронтового минимума в 1950-60 гг любовь, как всеобщая привилегия и как отвоёванное время, имела возможность развернуться во всю ширь.
Здесь-то и возникают прежние призраки быта – уже гораздо более комфортного, но всё же обуславливающего бытие и чувства двоих. И, кстати, почему двоих? В случае, если знакомство происходит на территории проживания с родителями – уже утесняются, форматируются чувства. Если попытаться угадать тот вектор, что был намечен ещё Коллонтай – то клич «дорогу крылатому Эросу» есть призыв через освобождение любви от всех и всяких стен строить совершенно новое общество, без прежних табу и пережитков чувств, таких как ревность, собственничество. Скабрезные беляцкие сплетни об «общих женщинах» — лишь кривое отражение стартового проекта. Предполагалось, что ценность производства (научного, культурного, любого), формирующая коммуну, заменит заботы семьи, полностью снимет финансовое бремя с плеч отцов и матерей: детсады были лишь первой остановкой на пути «обобществления» детей в том смысле, что они, начиная с детсада куда дольше находились бы в коллективе, а не «дома». В свою очередь заботы коллектива-кормильца, одного на всех, сменяли семейные доминанты, оставляя желающие пары наедине только для любования, но не давая чувствам пар пропитываться парами быта и проблемами, вытекающими из пребывания в семейных карцерах (см. Коллонтай, там же)…
Главным материалом для изучения этого вопроса на данном этапе для нас является чёрно-белое, а затем и цветное советское кино, с середины 1950-х посвятившее массу «метров» изучению общества собой именно через призму любви, то есть всегда взглядом молодых влюблённых. И пошлость, и быстротечность, и взаимное недоверие даже (какая мелочь!) тут безжалостно бичуются (вспомнить хотя бы «Дело Румянцева»). Тут мы входим к самому главному и, сперва, чуть забегаем вперёд формулой: любовь на индивидуальном уровне лишь отображает настроения внутри общества. Говоря проще: если общество само себя любит, то оно и право даёт любить миллионам, и все условия им для этого создаёт – правда, по прежним стандартам, что является на первый взгляд делом неизбежным, а на второй так и вовсе фатальным (но и об этом чуть позже)… Тем не менее, общий климат общества отражается в каждой семье, а направление его развития является и конкретным будущим затаённых в семьях поколений. И, наоборот, общество с классовыми противоречиями, с разницей доходов, обрекает семьи на грызню, ведь даже самое светлое и взаимное чувство не в состоянии решить внешних проблем.
При плановой экономике – был ли план по любви в СССР? Уточню: каким видело себя стремительно развивающееся, новые города строящее, новые отрасли промышленности запускающее общество через призму семейных отношений? Об этом есть немного у той же Коллонтай: в 1970-м году она видела общество уже напрочь позабывшим, что такое убийства и деньги («Новый год»..). Ну а что такое семья – нужна ли она, ведь согласно Энгельсу это лишь производная формаций, а технический и культурный рост вполне в силах стереть прежние социальные границы комнат и даже общежитий. В архитектурном плане вопрос этот решался – но дальше проектов не шёл. Тем не менее, в кино всё же тот вектор был заметнее: как правило конфликт с родителями по поводу выбора невесты/жениха разрешался через отъезд молодых на завоевания новых земель. Слишком обобщённо – но фабула везде такова. Это говорило как раз о «плане Коллонтай», даже в банальных «Я шагаю по Москве» и «Дайте жалобную книгу» (герои обоих фильмов зовут потенциальных невест в заново отстроенные города, в новые пространства общежитий, в новый для невест социум). Увы, исторически напророченные в кино расширяющиеся границы поколений, ослабевающая стенная твёрдость их скреп – не стали явью, а общежития (даже БАМ, где действительно ослабевали прежние алгоритмы взаимоотношений, но лишь на время) оказались полустанком перед отбытием в отдельные квартиры. И на новый виток эстафеты поколений.
Сексуальна ли революция ?
Мало кем замеченная в данном контексте кинематографическая диктатура соцреализма – вот одна из небазисных причин парижского мая 1968-го. Без долгой борьбы внутри СССР за «время любви» (сократим тут до лозунга) – не наступила бы и культурная революция в ближайших окрестностях Союза. Новые, свободные, гуляющие сколько вздумается по новым советским городам люди – стали образцами для всей планеты. Не зря в гражданской слагали головы их деды: кино показало, как подробна, как социально ответственна может быть любовь. И уже не просто любовь как субъективный, сближающий двоих феномен – а целое любование, как доминирующее в обществе настроение, вот что предъявило миру советское кино. Соцреализм 30-х и 40-х, «радугизм» стал школой для неореализма и далее преобразованный, но новый, отображаемый пока чёрно-бело, человек зашагал по экранам мира. Уже не просто жаждущий, а могущий любить. На данном этапе мне хочется заметить уже новый вектор борьбы – разрастающееся в новых общественных масштабах чувство (и итальянцы замечали, как оно стиснуто ещё кое-где стенами наследных формаций) боролось уже не за любовь, а за любование , то есть, показывая себя, оно уже не довольствовалось прежней скромностью и сдержанностью. Здесь наступал уже важнейший рубеж – причём мировых, а не только советских палитр.
Нельзя показать в кино любви, не показывая общество – вторая половина ХХ века не оставляла шансов эскапистам. Но если всё же любование* (как завоевание сугубо социалистическое: ведь его дарует время, экспроприированное вместе с собственностью на средства производства) разворачивается в пределах пары, остаётся деянием двоих, то почему бы не опустить увеличительное стекло на постель, а не на город новых людей?
Вот именно тут мы и имеем переход из неореализма (если оставляем материалом кино) в необуржуазное воспевание тела как привилегии в обществе. Именно не любви как привилегии, а красоты как товара. Нет, «подводки» остаются и зачастую социально критичны – тут даже можно найти преемственность. Но молодой Антониони и зрелый, это в точности он до сексуальной революции и после. Впрочем, не он один. Здесь культурный диалог не прекращался – хотя, от эстетической диктатуры советское кино давно перешло к заимствованиям. И не Тарковский тут является одиноким эпигоном. Скажем, фильм Михалкова-Кончаловского «Романс о влюблённых» с его допустимым цензурой фрагментарным эротизмом – социально оптимистичен, но при этом и вполне буржуазен, а под конец попахивает чернухой. Причём поднятые там вопросы – та самая канва решения в СССР вопроса, нужна ли новому обществу семья вообще. Она даётся тут как мрачная необходимость, чуждая любви.
Можно в шутку считать деструктивный 1991-й, и весь многолетний постсоветский социальный регресс лишь следствием кинотенденций, однако семейный вопрос после отказа от завоёванных революцией социальных стандартов и форм встал куда жёстче. И есть подозрение, что нынешние, хоть и комфортные, но эмоционально дореволюционные клетушки нового пролетариата вместе с традиционными ценностями томят в себе несчастливые семьи. Государство по-прежнему ведёт учёт прибавляющихся поколений семейным путём: семья есть экономическая необходимость, чувства в ней безусловно вторичны, с чувствами граждане как-нибудь сами разберутся. Ведь у них было на это время?
Удивительно, но 1991-й был, помимо прочего, впрыскиванием свобод той самой, сексуальной революции конца 60-х – вне формационной лестницы она действовала наркотиком. Помимо времени первоначального накопления и откровенного грабежа, 90-е были временем любви, последних всплесков того глубоко альтруистического, рассчитанного на многие годы любования чувства, которое воспитывалось весь ХХ век в СССР. И это не идеализация – достаточно изучить язык взаимоотношений начала 90-х и конца 2000-х. Жуткие, безусловно связанные с регрессом и экспортом формации, речевые обороты «заниматься сексом» (ну, положим, заниматься полом – это ещё на что-то похоже, но что такое «оральный пол» в таком случае?), «сексуальность» (половатость), в общем предельно выраженная та самая «минимальность», с которой начинался ХХ век и чем он, увы, кончился. Любовь заговорила на языке правящего класса, как до этого интеллигенция заговорила языком братков. Любовью «занимаются», как занимаются делами: экспортная лексика тут исчерпывающе описывает редукцию любви до минимума, запрещая роскошь прежних наслоений, в которых по сути было снятие противоречий «плотского», индивидуального и «духовного», общественного…
Семья в эпоху возвратного капитализма снова стала тюрьмой – «семья по любви», если и не деяние сватов, то немногим лучшее состояние общества, где необходимость побеждает свободу, и любования там искать не приходится. Нетрадиционные для буржуазных ячеек формы любви – лишь бегство обречённых из тюрем, поскольку они заведомо теряют понимание своих детей, то есть нарушают эстафету поколений хоть и не на «минимальном», но на ментальном уровне, что есть признак кризиса. Вырываться из этих скреп пытаются альтернативные сообщества – кружки, партейки, любые идеологизированные ячейки, но и им предписано правило общества. Какое? Да то же самое – время. Как сухой остаток достатка. И во взгляд влюблённых, умевший прежде любоваться без задних мыслей (даже в 90-х, по инерции), теперь впаяно беспокойство о завтрашнем дне. Важно выбирать партнёра сразу же не по одной любви, но и по расчёту – иначе не быть и любви, вот вердикт похуже сватовых…
Таким образом и сексуальная революция, презревшая борьбу за базис, а все силы бросившая в новый виток «долой стыда», и контрреволюция сугубо базисная, сопровождавшаяся новыми классовыми сдвигами и эйфорией обречённых – сошлись на одном, на полной непрезентабельности и сворачивании прежних свобод, столь громко декларированных. Сам термин «гастарбайтер» выразил если не план, то стратегию новых раздробленных обществ постсоветского пространства: снова свободное время-любовь стекается в руки одних, оставляя других с семьями в бараках и общагах, съёмных на 10 человек комнатушек. Им же даровано возвращение к национальным корням и религиям – чтобы утешались.
Текст: Дмитрий Чёрный
Иллюстрация: Дарья Кавелина
Я включил в эту книгу всё, что узнал об эмоциях за последние сорок лет и что, по моему убеждению, может помочь человеку улучшить его эмоциональную жизнь. Большая часть написанного мной – но не всё – подкрепляется результатами исследований других ученых, занимающихся изучением эмоций. Особая цель моих собственных исследований состояла в выработке профессионального умения читать и измерять проявления эмоций на лице. Обладая таким умением, я смог бы различать на лицах незнакомцев, друзей и членов семьи те нюансы, которые не замечают большинство людей, и благодаря этому я бы узнавал о них намного больше и вдобавок имел бы время для проверки своих идей с помощью экспериментов. Когда то, что я пишу, основывается на моих собственных наблюдениях, я подчеркиваю этот факт такими словами, как «по моим наблюдениям», «я уверен», «мне кажется…» А когда то, что я пишу, основывается на результатах научных экспериментов, я даю ссылку на конкретных источник, подкрепляющий мои слова.
Значительная часть того, что написано в этой книге, появилось под влиянием результатов моих межкультурных исследований выражений лица. Они навсегда изменили мой взгляд на психологию в целом и на эмоции в частности. Эти результаты, полученные в таких разных странах, как Папуа–Новая Гвинея, США, Япония, Бразилия, Аргентина, Индонезия и бывший Советский Союз, способствовали генерированию моих собственных идей о природе эмоций.
В ходе моих первых научных исследований, проведенных в конце 1950–х гг., я не проявлял вообще никакого интереса к выражениям лица. Все мое внимание было приковано к движениям рук. Мой метод классификации жестов позволял различать невротически и психотически депрессивных пациентов и оценивать, насколько улучшилось их состояние после лечения. В начале 1960–х гг. ещё даже не было метода для непосредственного точного измерения сложных, часто очень быстрых движений лица, которые демонстрировали депрессивные пациенты. Я не имел представления о том, с чего начать, и не предпринял никаких реальных действий в этом направлении. Четверть века спустя, когда я разработал метод измерения движений лица, я вернулся к кинопленкам, на которых были сняты эти пациенты, и сумел сделать важные открытия, описанные в разделе 5.
Я не думаю, что в 1965 г. я перевел бы фокус моих исследований на изучение выражений лица и эмоций, если бы не два благоприятных события. Во–первых, Агентство передовых исследовательских проектов (АРМА) при министерстве обороны США выделило мне грант на исследование невербального поведения в разных культурах. Я не претендовал на получение этого гранта, но в результате разразившегося скандала главный исследовательский проект APRA (фактически служивший прикрытием для поддержки повстанцев в одной из южных стран) был прикрыт и выделенные на него деньги необходимо было потратить где–нибудь за рубежом на проведение исследований, неспособных вызвать никаких подозрений. По счастливому стечению обстоятельств я оказался в нужный момент в кабинете того человека, который должен был потратить эти деньги. Он был женат на уроженке Таиланда и находился под впечатлением от того, насколько отличались ее невербальные коммуникации от тех, которые были привычны ему. По этой причине он хотел, чтобы я выяснил, что в таких коммуникациях является универсальным, а что характерным только для конкретных культур. Поначалу эта перспектива меня не обрадовала, но я решил не отступать и доказать свою способность справиться и с этой задачей.
Я приступил к работе над проектом в полной уверенности в том, что выражения лица и жесты являются результатом социального научения и меняются от культуры к культуре, и так же считали те специалисты, к которым я первоначально обратился за консультацией: Маргарет Мид, Грегори Бейтсон, Эдвард Холл, Рэй Бердвистел и Чарльз Осгуд. Я вспомнил, что Чарльз Дарвин придерживался противоположного мнения, но был настолько уверен в его неправоте, что не дал себе труда прочитать его книгу, посвященную этому вопросу.
Во–вторых, большой удачей оказалась моя встреча с Сильваном Томкинсом. Он только что написал две книги об эмоциях, в которых утверждал, что выражения лица являются врожденными и универсальными для нашего биологического вида, но не имел доказательств в поддержку своих утверждений. Я не думаю, что когда–нибудь прочитал бы его книги или встретился с ним самим, если бы мы оба одновременно не представили в один и тот же научный журнал наши собственные статьи: он - об исследовании лица, а я - об исследовании движений тела.
На меня произвели огромное впечатление глубина и широта мышления Сильвана, но я считал, что он, подобно Дарвину, придерживался ошибочного представления о врожденности, а значит, и универсальности выражений лица. Я был рад тому, что в спор вступил еще один участник и что теперь не только Дарвин, написавший свою работу сто лет тому назад, оппонировал Мид, Бэйтсону, Бердвистелу и Холлу. Дело принимало новый оборот. Возник реальный научный спор между знаменитыми учеными, и я, едва перешагнувший тридцатилетний рубеж, получил возможность, подкрепленную реальным финансированием, попытаться разрешить его раз и навсегда, дав ответ на следующий вопрос: являются ли выражения лица универсальными или же они, подобно языкам, специфичны для каждой конкретной культуры? Перед такой перспективой нельзя было устоять! Меня не волновало, кто окажется прав, хотя я не думал, что прав будет Сильван.
В ходе моего первого исследования я показывал фотографии людям из пяти стран (культур) - Чили, Аргентины, Бразилии, Японии и США - и просил их оценить, какие эмоции отображались каждым выражением лица. Большинство людей в каждой культуре соглашались с тем, что выражения эмоций действительно могут быть универсальными. Кэррол Изард, еще один психолог, которого консультировал Сильван и который работал в других культурах, провел практически тот же эксперимент и получил те же самые результаты. Томкинс ничего не сказал мне об Изарде, а Изарду - обо мне. Сначала мы оба были недовольны тем, что практически одно и то же исследование одновременно выполняли два разных ученых, но для науки было особенно ценно, что два независимых исследователя пришли к одному и тому же выводу. По–видимому, Дарвин был прав.
Но как мы смогли установить, что люди из многих разных культур соглашались по поводу того, какая эмоция показывалась им на снимке, в то время как большое число умных людей придерживались совершенно противоположного мнения? Это были не просто путешественники, утверждавшие, что выражения лиц японцев, или китайцев, или представителей иных культур имеют разные значения. Бердвистел, уважаемый антрополог, специализировавшийся на изучении выражений лица и жестов (протеже Маргарет Мид), писал, что он отверг идеи Дарвина, когда обнаружил, что во многих культурах люди улыбаются, даже чувствуя себя несчастными. Утверждение Бердвистела соответствовало точке зрения, доминировавшей в антропологии культур и по большей части в психологии в целом, согласно которой все имеющее социальную важность должно быть продуктом научения и, таким образом, изменяться от культуры к культуре.
Я примирил наши выводы об универсальности выражений эмоций с утверждениями Бердвистела о различии этих выражений в разных культурах с помощью идеи о правилах отображения
. Эти правила, усваиваемые в результате социального научения и часто изменяющиеся от культуры к культуре, определяют, как следует управлять выражениями лица и кто, когда и кому может показывать свою ту или иную эмоцию. Именно благодаря этим правилам на большинстве публичных спортивных соревнований проигравший не показывает на лице печали или разочарования, которые он в действительности испытывает. Правила отображения воплощаются в типичном приказании родителей: «Убери эту самодовольную улыбку с лица». Такие правила могут требовать, чтобы мы ослабляли, усиливали, полностью скрывали или маскировали выражение той эмоции, которую мы в действительности испытываем.
Я проверил эту формулировку в ряде исследований, которые показали, что японцы и американцы имели одинаковые выражения лица, когда они в одиночку
смотрели фильмы о хирургических операциях и катастрофах, но когда они смотрели те же фильмы в присутствии исследователя, то японцы в большей степени, чем американцы, маскировали выражение негативных эмоций на лице с помощью улыбки. Таким образом, наедине с собой человек показывает врожденные выражения эмоций, а на людях - управляемые выражения. Так как антропологи и большинство путешественников наблюдали именно публичное поведение, то я имел собственные объяснения и доказательства его использования. Напротив, символические жесты, такие как утвердительные или отрицательные покачивания головой или поднятый в знак одобрения большой палец сжатой в кулак руки, безусловно, являются специфическими для данной культуры. В этом Бердвистел, Мид и большинство других исследователей поведения человека были, безусловно, правы, хотя они и заблуждались в отношении выражения эмоций на лице.
Но здесь имелась одна лазейка, и если ее смог увидеть я, то смогли бы увидеть и Мид с Бердвистелом, которые, как мне было известно, искали любой способ поставить под сомнение мои результаты. Все люди, которых приходилось обследовать мне (и Изарду), могли усвоить западную манеру выражения эмоций на лице благодаря виденным им на кино–и телеэкране фильмам с участием Чарли Чаплина и Джона Уэйна. Научение через масс–медиа или контакты с представителями других культур могло объяснить, почему люди из разных культур одинаково оценивали эмоции на показываемых им фотографиях. Мне нужна была визуально изолированная от остального мира культура, представители которой никогда бы не видели ни кинофильмов, ни телепередач, ни журналов, а по возможности, и вообще никаких людей из другого общества. Если бы они оценивали выражения эмоций на показываемых им фотографиях точно так же, как жители Чили, Аргентины, Бразилии, Японии и США, то я бы оказался на коне.
Человеком, познакомившим меня с культурой каменного века, был невропатолог Карлтон Гайдусек, проработавший более десяти лет в самых глухих уголках Новой Гвинеи. Он пытался найти причину странной болезни под названием куру
, которая уничтожила около половины представителей одного из таких малочисленных народов. Люди верили, что эта болезнь была наслана на них злым волшебником. К тому моменту, когда я впервые приехал на остров, Гайдусек уже выяснил, что причиной болезни был вирус замедленного действия с длительным инкубационным периодом. У местных жителей симптомы болезни, вызванной этим вирусом, начинали проявляться спустя несколько лет после заражения (подобным образом действует вирус, вызывающий СПИД). Но Гайдусек еще не знал, каким образом передается этот вирус. (Оказалось, что вирус передавался вследствие привычки к каннибализму. Эти люди не съедали своих врагов, которые погибали в сражении и, как предполагалось, были здоровыми и сильными. Они съедали только своих друзей, умерших от какой–нибудь болезни, в частности от куру. Они ели мясо сырым, и поэтому болезнь распространялась очень быстро. Через несколько лет за открытие медленных вирусов Гайдусек был удостоен Нобелевской премии.)
К счастью, Гайдусек понимал, что культуры каменного века вскоре полностью исчезнут, и поэтому израсходовал более сотни тысяч футов пленки на съемки нескольких фильмов о повседневной жизни представителей двух вымирающих культур. Сам он ни разу не видел своих фильмов: ведь для просмотра всех отснятых им кинопленок потребовалось бы почти шесть недель. Таким было положение дел, когда на сцене появился я.
Обрадованный тем, что хотя бы у кого–то возник научный интерес к его фильмам, Гайдусек предоставил в мое распоряжение отснятые им кинопленки, и мы с моим коллегой Уолли Фризеном потратили на их тщательное изучение целых полгода. Фильмы содержали два очень убедительных доказательства универсальности выражения эмоций на лице. Прежде всего нам ни разу не пришлось увидеть незнакомых выражений. Если бы выражения лица усваивались исключительно посредством научения, то тогда эти полностью изолированные от остального мира люди демонстрировали бы новые выражения, которых мы никогда не видели прежде. Но таких выражений мы не увидели.
Однако по–прежнему сохранялась возможность того, что эти знакомые нам выражения лица сигнализируют о совсем других эмоциях. Но, хотя из фильмов не всегда было понятно, что происходило с человеком до и после того, как у него на лице появлялось какое–то выражение, опрошенные нами местные жители подтвердили правильность наших интерпретаций. Если бы выражения лица сигнализировали о разных эмоциях в разных культурах, то тогда постороннему человеку, абсолютно незнакомому с данной культурой, было бы невозможно правильно интерпретировать увиденные им выражения.
Я пытался думать о том, как Бердвистел и Мид стали бы оспаривать это утверждение. Я представил себе, как они заявляют: «Совершенно не важно, что вы не увидели новых выражений; просто те, которые вы видели, имеют в действительности другой смысл. Вы правильно их отгадали потому, что получили подсказку из социального контекста, в котором они возникли. Вы никогда не видели выражение, которое было бы изолировано от того, что происходило прежде, после или в тот же самый момент. Но если бы вы его увидели, то не смогли бы определить, что оно означает». Чтобы закрыть эту лазейку, я пригласил Сильвана, проживавшего на Восточном побережье, провести неделю в моей лаборатории.
До его приезда мы отредактировали фильмы таким образом, чтобы он мог видеть только сами выражения, вычлененные из их социального контекста, т. е. фактически только лица, снятые крупным планом. Но Сильван не испытал никаких проблем. Каждая из его интерпретаций хорошо соответствовала социальному контексту, которого он не видел. Более того, он в точности знал, как он получал информацию.
Мы с Уолли могли лишь почувствовать, что за эмоциональное сообщение передавалось каждым выражением, но наши оценки носили интуитивный характер; как правило, мы не могли в точности сказать, какое послание направляло лицо, если только на лице не появлялась улыбка. Сильван же уверенно подходил к экрану и точно указывал, какие конкретные движения мышц лица сигнализировали о выражении данной эмоции.
Мы также захотели узнать его общее впечатление об этих двух культурах. Он заявил, что одна группа выглядела вполне дружелюбно. Члены второй группы были по характеру вспыльчивыми, очень подозрительными и имели гомосексуальные наклонности. Такими словами он описал представителей племени анга
. Его оценки хорошо соответствовали тому, что нам рассказывал Гайдусек, работавший с этими людьми. Они периодически атаковали австралийских официальных лиц, пытавшихся основать поблизости государственную овцеводческую ферму. Это племя, по словам его соседей, отличалось крайней подозрительностью. А его мужская половина до вступления в брак имела только гомосексуальные связи. Через несколько лет этнологу Ирениусу Эйбл–Эйбесфельдту, попытавшемуся работать с этим племенем, пришлось в буквальном смысле спасать свою жизнь бегством.
После этой встречи я решил посвятить себя изучению выражений лица. Я должен был отправиться в Новую Гвинею и попытаться найти факты, подтверждающие то, что я считал верным: что по крайней мере некоторые выражения эмоций на лице являются универсальными. И я должен был разработать беспристрастный метод измерения изменений лица, чтобы любой другой ученый мог объективно узнать по движениям лица все то, что Сильван узнавал благодаря своей проницательности.
В конце 1967 г. я отправился на юго–восточное плоскогорье острова Новая Гвинея для обследования туземцев племени форе, которые жили в маленьких деревеньках, расположенных на высоте семи тысяч футов над уровнем моря. Я не знал языка форе, но с помощью нескольких местных юношей, учивших язык пиджин
в миссионерской школе, я мог обеспечить перевод слов с английского на пиджин и далее на форе, а также обратный перевод. Я привез с собой фотографии разных выражений лица, большую часть которых дал мне Сильван для проведения исследований среди грамотных людей. (Ниже приведены три таких снимка.) Я также взял несколько фотографий людей из племени форе, отобранных с кинопленок, полагая, что эти люди будут иметь трудности с интерпретацией выражений лица европейцев. Я даже опасался, что они вообще окажутся не в состоянии понять смысл фотографий, поскольку прежде им не приходилось видеть ничего подобного. Ранее некоторые антропологи утверждали, что людей, которые никогда не видели фотографий, нужно учить тому, как интерпретировать эти изображения. Однако у людей из племени форе не было таких проблем; они сразу же поняли, что такое фотографии, и, по–видимому, для них не имело большого значения, какой национальности был сфотографированный человек – американцем, или из племени форе.
Трудность заключалась в том, чтобы правильно попросить их сделать то, что мне было нужно.
Они не имели своей письменности, и поэтому я не мог попросить их выбрать из списка то слово, которое бы описывало показанную эмоцию. Если бы мне нужно было зачитывать им список названий разных эмоций, то мне бы пришлось беспокоиться о том, чтобы они запомнили весь этот список, и о том, чтобы порядок зачитываемых слов не влиял на их выбор. По этим причинам я просто просил их придумать историю о каждом выражении лица. «Скажи мне, что происходит сейчас, из–за какого события в прошлом у человека возникло такое выражение и что должно произойти в ближайшем будущем. Процедура оказалась подобной медленному выдергиванию зубов. Я точно не знаю, было ли это обусловлено необходимостью работы через переводчика или полным отсутствием у них понимания того, что я хотел от них услышать или почему я хотел заставить это делать. Возможно также, что выдумывание историй о незнакомых людях не входило в число умений, которыми обладали представители племени форе.
Я действительно получил какие–то истории, но это стоило мне огромных затрат времени. После каждой такой встречи и я, и мои собеседники чувствовали себя обессиленными. Тем не менее я не испытывал недостатка в добровольцах, хотя народная молва сообщала о том, что выполнить задание, которое я даю, очень непросто. Однако имелся мощный стимул, заставлявший людей соглашаться разглядывать чужие фотографии: каждому, кто соглашался мне помочь, я давал кусок мыла или пачку сигарет. Эти люди не производили мыла, поэтому оно представляло для них большую ценность. Они выращивали табак, которыми набивали свои трубки, но курить мои сигареты, по–видимому, им нравилось больше.
Большинство их историй соответствовали той эмоции, которая, как предполагалось, отображалась на каждой фотографии. Например, глядя на снимок, показывающий то, что грамотные люди называют печалью, жители Новой Гвинеи чаще всего говорили, что у человека, показанного на фотографии, умер ребенок. Но процедура «вытягивания» историй была очень трудоемкой, а доказательство того, что разные истории соответствуют какой–то одной эмоции, представлялось трудной задачей. Я понимал, что должен действовать как–то по–другому, но не знал как.
Я также фотографировал спонтанные выражения лица и имел возможность фиксировать на пленке радостные взгляды людей, которым на дороге встречались их друзья из соседней деревни. Я специально создавал ситуации, способные вызвать нужные эмоции. Я записал на магнитофон игру двух мужчин на местных музыкальных инструментах и затем фотографировал их удивленные и радостные лица в то время, когда они впервые в жизни слушали свою музыку и свои голоса, записанные на магнитную ленту. Однажды я даже понарошку напал с резиновым ножом на местного мальчика, а скрытая камера снимала в это время его реакцию и реакцию его друзей. Все решили, что это была хорошая шутка. (Я благоразумно не стал изображать такое «нападение» на кого–то из взрослых мужчин.) Такие кинокадры не могли использоваться мной в качестве доказательств, так как те, кто полагал, что выражения эмоций на лице должны быть разными в разных культурах, всегда могли заявить, что я выбрал только те немногие случаи, когда на лицах людей появлялись универсальные выражения.
Я уехал из Новой Гвинеи через несколько месяцев - такое решение далось мне без труда, так как я жаждал привычного мне человеческого общения, которое было невозможно для меня в обществе этих людей, и привычной мне пищи, так как сначала я ошибочно решил, что вполне смогу обойтись блюдами местной кухни. Нечто, напоминающее какие–то части спаржи, которые мы обычно выбрасываем в мусорное ведро, надоели нам до последней степени. Это была авантюра, одна из самых увлекательных в моей жизни, но я по–прежнему беспокоился о том, что не смог собрать неопровержимых доказательств своей правоты. Я знал, что эта культура недолго будет оставаться в изоляции и что других культур, подобных этой, в мире осталось очень немного.
По возвращении домой я познакомился с методом исследований, который психолог Джон Дешил (John Dashiel) использовал в 1930–х гг. для изучения того, насколько хорошо маленькие дети могут интерпретировать выражения лица. Дети были слишком маленькими, чтобы читать, поэтому он не мог давать им список слов, из которого они могли бы делать выбор. Вместо того чтобы просить их придумать историю - как поступал я в Новой Гвинее, Дешил сам рассказывал им истории и показывал набор картинок. Все, что от них требовалось, это выбрать картинку, соответствующую рассказанной истории. Я понял, что этот метод подойдет и мне. Я просмотрел истории, рассказанные мне жителями Новой Гвинеи, чтобы выбрать те, которые чаще всего использовались при объяснении каждого случая выражения эмоций. Все они были довольно простыми: «К нему пришли друзья, и он этому очень рад; он разгневан и готов драться; его ребенок умер, и он испытывает глубокую печаль; он смотрит на что–то такое, что ему очень не нравится, или он видит то, что очень плохо пахнет; он видит что–то новое и неожиданное».
Возникла проблема с наиболее часто рассказываемой историей для чувства страха - об опасности, исходящей от дикой свиньи. Я вынужден был изменить ее, чтобы снизить вероятность ее применения к эмоциям удивления или гнева. Она стала выглядеть следующим образом: «Он сидит дома совсем один, и в деревне тоже никого нет. Дома нет ни ножа, ни топора, ни лука со стрелами. Дикая свинья останавливается перед дверью дома, и он смотрит на нее и испытывает страх. Свинья стоит перед дверью несколько минут, а он смотрит на нее с испугом; свинья не отходит от двери, а он боится, что свинья нападет на него».
Я сделал набор из трех фотографий, которые должны были показываться при прочтении одной из историй (пример приводится ниже). От испытуемого требовалось только указать на одну из фотографий. Я подготовил много наборов фотографий, так как не хотел, чтобы какая–то из них появлялась больше одного раза и человек мог делать выбор методом исключения: «О, эту я уже видел, когда слушал рассказ об умершем ребенке, а эту - когда мне рассказывали о готовности напасть на обидчика; значит, эта фотография имеет отношение к дикой свинье».
Я вернулся в Новую Гвинею в конце 1968 г. со своими историями и фотографиями и с несколькими моими коллегами, которые должны были помогать мне собирать данные. (На это раз я взял с собой большой запас консервов.) Весть о нашем возвращении быстро разнеслась по острову, так как, кроме Гайдусека и его оператора Ричарда Соренсона (оказавшего мне большую помощь в мой первый приезд), очень немногие иностранцы, посетившие Новую Гвинею один раз, приезжали туда снова. Сначала мы сами проехали по нескольким деревням, но после того, как стало известно, что на этот раз мы просим выполнить очень легкое задание, к нам стали приходить жители самых удаленных уголков острова. Им нравилось наше новое задание и возможность получить кусок мыла или пачку сигарет.
Я специально позаботился о том, чтобы никто из нашей группы не мог делать непреднамеренных подсказок нашим испытуемым о том, какой эмоции соответствует та или иная фотография. Наборы фотографий были наклеены на прозрачные пластиковые страницы, при этом числовой код, написанный на обороте каждого снимка, мог быть виден только с обратной стороны страницы. Мы старались сделать так, чтобы невозможно было узнать, какой код соответствовал каждому выражению. Поэтому страница поворачивалась к испытуемому таким образом, чтобы человек, записывающий ответы, не мог видеть лицевую сторону страницы. Зачитывалась история, и испытуемый указывал на соответствующую фотографию, а один из нас записывал код снимка, выбранного испытуемым.
В течение всего нескольких недель мы обследовали более трехсот человек, т. е. около 3% всех представителей этой культуры, и полученных данных было вполне достаточно для проведения статистического анализа. Полученные результаты не вызывали сомнений для эмоций радости, гнева, отвращения и печали. Страх и удивление оказались практически неразличимы: когда люди слышали страшную историю, они с равной вероятностью выбирали выражение страха и выражение удивления, и то же самое наблюдалось, когда они слышали удивительную историю. Но страх и удивление дифференцировались от гнева, отвращения, печали и радости. До сих пор я не знаю, почему эти люди не различали страх и удивление. Возможно, проблема заключалась в наших историях, а возможно, эти две эмоции настолько тесно переплетались в жизни этих людей, что стали практически неразличимы, В культурах с преобладанием грамотного населения люди четко отличают страх от удивления.
Все наши испытуемые, за исключением двадцати трех, никогда не видели кинофильмов, телепередач или фотографий, не разговаривали на английском или на пиджин
и не понимали этих языков, никогда не бывали в населенных пунктах на западе острова или главном городе их провинции и никогда не работали на европейцев. Двадцать три человека, составлявших исключение, видели кинофильмы, говорили по–английски и больше года учились в миссионерской школе. Результаты исследования не выявили никаких различий между большинством испытуемых, имевшим мало контактов с внешним миром, и теми немногими, кто эти контакты имел, а также между мужчинами и женщинами.
Мы провели еще один эксперимент, который оказался для испытуемых не таким простым. Один из людей, говоривших на пиджин, читал слушателям какую–то историю, а затем просил их показать, как бы выглядело их лицо, если бы эта история приключилась с ними. Я снимал на видео, как эти люди, ни один из которых не участвовал в первом эксперименте, придавали своим лицам требуемые выражения. Позднее эти неотредактированные видеозаписи были показаны студентам колледжа в США. Если бы выражения эмоций менялись от культуры к культуре, то тогда эти студенты не могли бы правильно их интерпретировать. Но американцам удалось идентифицировать все эмоции, кроме страха и удивления, - они путали их точно так же, как и жители Новой Гвинеи. Ниже приводятся четыре примера того, как выражают свои эмоции гвинейцы.

 Я обнародовал результаты наших исследований на ежегодной национальной конференции антропологов в 1969 г. Для многих наши результаты оказались неприятным сюрпризом. Эти ученые были твердо убеждены в том, что поведение человека целиком определяется его воспитанием, а не врожденными качествами; отсюда следовало, что, несмотря на мои доказательства, выражения эмоций должны быть разными в разных культурах. Факт обнаружения культурных различий в управлении
выражениями лица в моем эксперименте с японскими и американскими студентами был признан недостаточно убедительным.
Я обнародовал результаты наших исследований на ежегодной национальной конференции антропологов в 1969 г. Для многих наши результаты оказались неприятным сюрпризом. Эти ученые были твердо убеждены в том, что поведение человека целиком определяется его воспитанием, а не врожденными качествами; отсюда следовало, что, несмотря на мои доказательства, выражения эмоций должны быть разными в разных культурах. Факт обнаружения культурных различий в управлении
выражениями лица в моем эксперименте с японскими и американскими студентами был признан недостаточно убедительным.
Лучший способ рассеять сомнения оппонентов заключался в том, чтобы полностью повторить все исследования в другой примитивной изолированной культуре. В идеале, повторить исследования должен был кто–то другой - кто хотел бы доказать мою неправоту. Если бы такой человек обнаружил бы то же самое, что обнаружил я, то это бы очень укрепило мои позиции. Благодаря другому счастливому стечению обстоятельств эту задачу блестяще выполнил антрополог Карл Хайдер.
Хайдер недавно вернулся из Индонезии, точнее из той части страны, которая называется теперь Западным Арианом. Там он в течение нескольких лет занимался изучением другой изолированной группы туземцев из племени дани
. Хайдер сказал мне, что в моих исследованиях что–то не так, потому что люди племени дани даже не имеют слов для обозначения эмоций. Я познакомил его со всеми материалами моих исследований и предложил повторить мои эксперименты при следующем посещении этого племени. Его результаты в точности совпали с моими - даже в отношении неспособности четко различать удивление и страх.
Тем не менее даже сегодня не все антропологи убеждены в правильности моих выводов. Несколько известных мне психологов, занимающихся главным образом вопросами языка, указывают на то, что наши исследования среди грамотных людей, во время которых мы просили респондентов называть эмоцию, соответствующую конкретному выражению лица, не подтверждают принцип универсальности, так как слова, определяющие каждую эмоцию, не имеют идеального перевода на другие языки. То, как эмоции отображаются в языке, является, разумеется, продуктом культуры, а не эволюции. Но результаты обследования более чем двадцати грамотных культур Запада и Востока говорят о том, что мнение большинства представителей культуры о том, какая эмоция проявляется в данном выражении лица, оказывается одинаковым. Несмотря на проблему перевода, у нас никогда не возникало ситуации, в которой большинство людей в двух культурах приписывало бы разные эмоции одному и тому же выражению лица. Никогда! И разумеется, наши выводы опирались не только на те исследования, в ходе которых люди должны были описать фотографию каким–то одним словом. В Новой Гвинее мы использовали истории для описания события, вызвавшего эмоцию. Мы также просили их изображать эмоции. А в Японии мы фактически измеряли движения самого лица, показывая таким образом, что когда люди находятся в одиночестве, то при просмотре неприятного фильма у них работают одни и те же мышцы лица, кем бы эти люди ни были - японцами или американцами.
Другой критик с пренебрежением говорил о наших исследованиях в Новой Гвинее на том основании, что мы использовали не конкретные слова, а истории, описывающие социальные ситуации. Он утверждал, что эмоции - это слова, хотя в действительности это не так. Слова являются лишь обозначениями эмоций, а не эмоциями как таковыми. Эмоция - это процесс, особый тип автоматической оценки, несущей на себе отпечаток нашего эволюционного и индивидуального прошлого; в ходе этой оценки мы ощущаем, что происходит что–то важное для нашего благополучия и совокупность физиологических изменений и эмоциональных реакций вступает во взаимодействие с текущей ситуацией. Слова - это лишь один из способов отображения эмоций, и мы действительно используем их, когда испытываем эмоциональное возбуждение, но мы не можем сводить эмоции только к словам.
Никто не знает наверняка, какое сообщение мы автоматически принимаем, когда видим чье–то выражение лица. Я подозреваю, что такие слова, как «гнев» или «страх», не относятся к числу обычно передаваемых нами сообщений, когда мы оказываемся в соответствующей ситуации. Мы используем эти слова, когда говорим об эмоциях. Гораздо чаще сообщение, которое мы получаем, очень напоминает то, которое мы получали благодаря нашим историям, - не абстрактное слово, а определенное ощущение того, что человек собирается делать в следующий момент, или того, что заставило человека испытывать какую–то эмоцию.
Еще один совершенно другой тип доказательств также поддерживает утверждение Дарвина о том, что выражения эмоций на лице универсальны и являются результатом нашей эволюции. Если выражения не нужно усваивать, то тогда те, кто рождаются слепыми, должны демонстрировать те же выражения эмоций, как и те, кто родились зрячими. Многие исследования на эту тему были проведены за последние шестьдесят лет, и их результаты неизменно подтверждали это предположение, особенно в отношении спонтанных выражений лица.
Результаты наших кросскультурных исследований стимулировали поиск ответов на множество других вопросов о выражениях эмоций: сколько выражений могут придавать своему лицу люди? Предоставляют выражения лица достоверную или же вводящую в заблуждение информацию? Могут ли люди «лгать лицом», подобно тому, как они лгут словами? Нам предстояло так много сделать и так много узнать. Теперь же мы имеем ответы на все эти вопросы, как и на многие другие.
Я выяснил, сколько выражений может принимать наше лицо: оказалось, что более десяти тысяч, и я определил те из них, которые имеют наиболее важное значение для наших эмоций. Более двадцати лет тому назад мы с Уолли Фризеном составили первый атлас человеческого лица, который состоял из словесных описаний, фотографий и последовательностей кинокадров и давал возможность измерять движения лица в анатомических терминах. Работая над этим атласом, я научился тому, как выполнять любые мышечные движения на моем собственном лице. Иногда для проверки того, что выполняемое мной движение было вызвано сокращением конкретной мышцы, я протыкал кожу лица иглой, чтобы обеспечить электростимуляцию и сокращение мышцы, создающей нужное выражение. В 1978 г. описание нашей методики измерения движений лица - FACS
(Facial Action Coding System
) «Система кодирования движений лица» - было выпущено отдельной книгой. С тех пор этот инструмент широко используется сотнями ученых из разных стран для измерения движений лица, а специалисты по компьютерам активно работают над тем, как автоматизировать и ускорить такие измерения.
За прошедшие годы я использовал FACS для изучения тысяч фотографий и многих тысяч выражений лиц, заснятых на кино–и видеопленку, и измерял каждое мышечное движение для каждого выражения эмоции. Я стремился узнать об эмоциях как можно больше, измеряя выражения лиц пациентов психиатрических клиник и людей с сердечно–сосудистыми заболеваниями. Я изучал также нормальных людей, которые показывались в выпусках новостей CNN или были участниками моих лабораторных экспериментов по провоцированию эмоций.
За последние двадцать лет я сотрудничал с другими учеными для выяснения того, что происходит в нашем теле и нашем мозге, когда выражение какой–то эмоции появляется на нашем лице. Подобно тому, как имеются разные выражения для гнева, страха, отвращения и печали, имеются и разные профили физиологических изменений в органах нашего тела, генерирующие для каждой эмоции свои уникальные ощущения. Наука только сейчас начинает определять модели работы головного мозга, лежащие в основе проявления каждой эмоции.
Используя FACS, мы научились выявлять на лице признаки, указывающие на то, что человек лжет. То, что я назвал микровыражениями
, т.е. очень быстрые движения лица, продолжающиеся менее 1/5 секунды, являются важными источниками утечки информации, позволяющей узнать, какую эмоцию человек пытается скрыть. Неискренние выражения лица могут разоблачать себя разными способами: обычно они слегка асимметричны и их появление и исчезновение с лица происходит чересчур резко. Мои исследования по выявлению признаков лжи стали причиной моего сотрудничества с судьями, адвокатами и полицейскими, а также с ФБР, ЦРУ и с другими подобными организациями из дружественных нам стран. Я учил всех этих людей тому, как можно точнее определить, говорит ли человек правду или лжет. Эта работа помогла мне получить возможность изучить выражения лиц и эмоции шпионов, убийц, растратчиков, зарубежных национальных лидеров и многих других людей, с которыми профессор психологии обычно никогда не встречается лично.
Когда я написал уже больше половины этой книги, мне была предоставлена возможность провести пять дней в обществе его святейшества Далай–Ламы, чтобы обсудить с ним проблему деструктивных эмоций. В наших беседах принимали участие еще шесть человек - ученые и философы, которые также излагали свои воззрения. Знакомство с их воззрениями и участие в дискуссии позволило мне познакомиться с новыми идеями, которые я отразил в этой книге. Тогда же я впервые узнал о взглядах на эмоции тибетских буддистов, и эти взгляды оказались совсем не похожими на те, которые выработались у нас на Западе. Я с удивлением обнаружил, что идеи, изложенные мной в разделах 2 и 3, оказались совместимыми с воззрениями буддистов, а взгляды буддистов предполагали расширение и уточнение моих идей, что и заставило меня существенно изменить эти разделы. Я узнал от его святейшества Далай–Ламы о многих разных уровнях познания, от эмпирического до интеллектуального, и поверил в то, что моя книга существенно выиграет от полученных мной знаний. Эта книга не о буддистских взглядах на эмоции, но я действительно время от времени указываю на имеющиеся совпадения наших взглядов и на те моменты, когда благодаря этим совпадениям у меня возникли оригинальные идеи.
Одна из новых областей исследований, представляющих особый интерес для ученых, связана с изучением механизмов возникновения эмоций. Многое из того, о чем я здесь писал, основывается на результатах таких исследований, но мы еще не столько знаем о нашем мозге, чтобы ответить на многие из вопросов, обсуждавшихся в этой книге. Мы действительно много знаем об эмоциональном поведении - вполне достаточно, чтобы ответить на самые главные вопросы о роли эмоций в нашей повседневной жизни. То, о чем я рассказываю в следующих разделах, основывается главным образом на моих собственных исследованиях эмоционального поведения, в ходе которых подробно изучались особенности, виденные мной в разных эмоциональных ситуациях во многих разных культурах. Осмыслив этот материал, я решил написать о том, что, как мне кажется, должны знать люди для лучшего понимания своих эмоций.
Хотя основу для написания этой книги обеспечили мне проведенные мной исследования, я сознательно выходил за рамки доказанного наукой, чтобы включить в книгу также и то, что, по моему мнению, является верным, но остается еще не доказанным с научной точки зрения. Я обращался к нескольким вопросам, которые, как мне кажется, небезынтересны людям, желающим сделать свою эмоциональную жизнь более комфортной. Работа над книгой дала мне новое понимание эмоций, и я надеюсь, что это новое понимание появится теперь и у вас.
кандидат психологических наук,
доцент Московского гуманитарного университета
В аналитической статье обосновывается культурно-историческая обусловленность обращения к телесности как специфическому предметному полю психологической науки. Рассматривается сущность картезианского механистического понимания человеческого тела и социально-психологические проблемы, являющиеся следствием такого понимания.
Показывается, что на смену картезианскому отношению к телу, как к телу-объекту (телу-машине) приходит отношение, основанное на понимание органического свободного единства души и тела, фиксируемого в термине «телесность». Возникновение понятия «телесность» рассматривается как результат медиативного процесса, диалога между полюсами дуальной оппозиции душа-тело. В пространстве телесности, находящемся в сфере между, преодолевается дуализм души-тела, происходит, по выражению В. П. Зинченко, одухотворение тела и овнешнение души.
Исследование человеческой телесности, нуждающейся в специфическом методе познания-понимания, становится возможным с изменением представлений о научном познании. Метод познания живого тела близок познанию, осуществляемому в искусстве.
Новая историческая реальность ставит перед психологией задачу изучения условий развития самоидентичности, как одной из ядерных характеристик человеческого существования. В контексте становления самоидентичности особое значение приобретает способность человека к «Я-чувствованию», позволяющая опираться в своих выборах на целостное переживание телесного опыта.
Ключевые слова: телесность, живое тело, тело-машина, ментальное и чувственное, сфера «между », процесс медиации, метод психологии, культурно-исторический контекст.
В последние годы термин «телесность» все чаще встречается на страницах психологических публикаций. «Телесность» не синоним «тела» в его физическом понимании. Человеческая телесность одухотворенное тело, являющееся результатом процесса онтогенетического, личностного, в широком смысле исторического развития, и выражающее культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие уникального человеческого существа. Основным предикатом телесности является живое движение, соединяющее в себе психологическое содержание и материальную форму .
Тело есть культурный конструкт (В. А. Подорога), и, следовательно, проблемы психологии телесности не могут изучаться вне культурологического контекста, логики исторического развития. Понимание данной логики поможет увидеть культурно-историческую обусловленность очерчивания телесности как специфического предметного поля психологической науки.
Картезианское понимание тела (современный культурологический контекст)
Оппозиции душа тело, ментальное чувственное характерны для сознания современного человека. Европейская культура, по утверждению С. С. Хоружего, построена на дуалистической антропологии, утверждающей, «…диаметральную разноприродность, противоположность души и тела; их противоположную бытийную ценность и судьбу; и, вследствие этого, целиком исключает телесное начало из духовного процесса…» .
Такое исключение стало в полной мере возможным благодаря работам Декарта. Суть Декартовского переворота подробно анализируется В. А. Подорогой . Он пишет, что утверждение и развитие техники аутопсии в медицинском знании XVI-XVII веков не было быстрым, этому развитию в основном мешало старое, но крайне устойчивое представление о полном психосоматическом единстве души и тела, единстве человеческой формы как божественной (и поэтому нерасторжимой, и это право на расторжение не могло быть в ведении человека). Однако в результате развития техники аутопсии смерть стала осмысляться как нарушение работы тела-машины, "длительный сбой", и поэтому не душа отходит от тела, а тело "ломается" как ломаются часы. «Труп пишет В. А. Подорога делает тело равным себе и потому видимым , в то время как живое тело скрыто движением, но раскрывает свою тайну в том, что Декарт называет живым автоматом » .
Приведу вслед за В. А. Подорогой ряд рассуждений Р.Декарта. "Я рассматривал себя раньше как имеющего лицо, руки, кисти рук и всю эту машину , так составленную из костей и мяса, как это можно видеть на трупе , и которую я обозначал названием тела " пишет Р.Декарт И далее: "Ведь часы, составленные из колес и маятника, следуют так же всем законам природы, когда плохо сделаны и неверно ходят, как и в том случае, если вполне соответствуют желанию мастера. Точно так же, если я буду смотреть на тело человека, как на машину, так построенную и составленную из костей, нервов, мускулов, жил, крови и кожи, чтобы быть в состоянии даже без помощи духа двигаться таким же образом, как и теперь, в тех случаях, когда она приводится в движение не усилиями воли и, следовательно, без помощи духа, но одним лишь расположением своих органов, то тогда мне станет ясно, что этому телу, например, настолько же естественно при водобоязни испытывать сухость горла, которая обыкновенно представляется духу как ощущение жажды, и вследствие этой сухости двигать свои нервы и другие части так, как это требуется для питья, и, увеличивая, таким образом, свое нездоровье, вредить себе, насколько ему естественно, когда оно вполне здорово, желать пить для своей пользы вследствие подобной же сухости горла. Правда, имея в виду употребление, к которому мастер предназначал свои часы, я могу сказать, что они отклоняются от своей природы, когда неверно ходят".
Тело- машина специфическим образом соединяет пространство и время, позволяя управлять как одним, так и другим. Обращусь вновь к размышлениям В. А. Подороги. Картезианская эпоха «эпоха точного времени , часы выступают как базовый Образ. Высший идеал: Бог-часовщик. Попытка соединить время с неопределенностью жизни объясняется тем, что надо управлять временем, чтобы противостоять смерти… Принципы механики, механизм выступает как посредник между неопределенным временем и пространственной корпускулярностью мира. Этот посредник позволяет с максимально точностью определить время на основе разрывного механического движения, время становится составным элементом представления мира. Пружина (часовая) как механическое сердце исчисляемого времени, не ритм, а такт. Тело мертвое, тело куклы механической, картезианский образ тела как мертвого, механического. Человеческое тело это труп, шагающий в такт секундной стрелке, соблюдающий точность часового механизма» .
Человек максимально дистанцируется от собственного тела и идентифицируется с собой мыслящим. Это "существование-в-мысли", ментальная близость, по выражению В. А. Подороги. «Между мной- мыслящим и моим телом дистанция бесконечная, разрыв и пропасть, которая никаким образом не может связать „дух“ с телом протяженным, даже если мы вынуждены признать, что вот это тело, которое мы называем своим, принадлежит нам, и мы не просто близки ему, мы и есть это тело. Вот эта всегдашняя удаленность от собственного тела и не могла состояться в качестве устойчивого представления, если бы не опиралась скрыто на архетипику образа мертвого тела… Мы узнаем, что мы особые машины Бога и узнаем это не из внутреннего опыта (выделено мной Т.Л.), но с помощью привычной экспозиции мертвого тела в анатомическом театре. Тело лишается внешней защиты, лишаясь в силу этого своей имманентности себе, то есть Внутреннего, последнее больше не тайна» . Таким образом, между мной и моим телом всегда присутствует знание устройства физического тела, схема тела, видение тела со стороны. Это знание тот посредник, который вытесняет внутренний опыт, обесценивает его.
"Европейское человечество пишет В. А. Подорога вступает в эпоху тотальной ре-презентации (повторное представление, явление; как про-явление того, что уже было образом или порядком образов, как re-presentation, re-appearence). Человеческое тело теперь только объект, оно индивидуализируется в качестве человеческого, а не тела, принадлежащего исключительно Космосу, единому Богу или Духу, оно обретает знаки профанного бытия, освобождаясь от диктата со стороны сакрального: его исследуют, подвергают вскрытию после смерти, обучают, лечат, тренируют, дисциплинируют, принуждают к труду, одним словом, наделяют биологией, анатомией, социоморфными и культурными характеристиками. Так, осознавая себя в качестве владельца собственного тела, человек становится картезианским Субъектом. Отсюда столь популярные сегодня (как и во времена Декарта) иконографии тел-механизмов, тел-машин, тел-автоматов и пр. свидетельства победы картезианского духа. Сакральная сфера «души» упраздняется, уступая место конфликту и спору между духом и телом".
Если тело есть машина, то возникает стремление совершенствовать ее устройство анатомо-физиологически. Следствием является развитие биотехнологий, направленных на улучшение работы «машины», увеличения времени ее использования.
Возникает идеология трансгуманизма, стремящаяся на основе достижений биомедицины, компьютерных и нано-технологий радикально улучшить и в пределе преобразовать биологические качества человека (его тело как «биологический носитель» интеллекта), усилить его могущество и тем самым добиться его неограниченного во времени существования (в том числе и в качественно ином теле). Эти идеи, и что более важно, лежащие за ними изменения в культуре и науке, являются вызовом традиционному представлению человека о самом себе. Это стремление создания сверх-тела можно рассматривать как радикализацию традиционного гуманизма, для которого характерна устремленность человека за рамки «себя» (Л. П. Киященко, П. Д. Тищенко) или воплощение картезианской мечты об абсолютном контроле над телом, ведь под полным контролем тело будет находиться тогда, когда контроль его сам создаст (В. А. Подорога).
Разделив тело и душу и начав рассматривать тело как объект, картезианское мышление выстроило властную иерархию. М. Фуко описал в феномене «био-власти» практики дисциплинарного контроля и указал на глубинную связь между идеей научной истины, наблюдаемостью тела в свете этой истины и аппаратами господства (контроля). Л. П. Киященко и П. Д. Тищенко отмечают, что дисциплинарные практики био-власти, о которых писал Фуко, не исчезают. Они приобретают транс-дисциплинарный характер .
Властное отношение к телу, как отмечает В. Ю. Баскаков, проявляется в частности в специфической терминологии, используемой в современной медицине и психотерапии. Используя язык «инь-янских» взаимоотношений, принятый в восточных культурах, в качестве языка описания реальности, В. Ю. Баскаков обращает наше внимание на однобокость европейской цивилизации, которая пошла по янскому пути, полностью отвергнув иньский. Он пишет: «Янский подход означает, что ставка в психотерапии или терапии в основном делается на воздействие с целью изменений в какую-либо сторону (чего стоит, хотя бы термин „интервенция“ ). При иньском подходе - создаются условия , когда тело клиента (пациента) идет навстречу особым характеристикам контакта, устанавливающегося между контактируемыми и позитивные изменения являются результатом взаимодействия… Наличие активности, „янского“ начала, хорошо прослежено в традиционном (особенно отечественном) здравоохранении. Судить об этом можно, хотя бы, по устойчивым языковым выражениям милитаристского толка, которыми она изобилует („приступболезни“, „борьба с болезнью“, „борьба за жизнь“, „остановить развитие опухоли“ и т.д.). Кстати, и сам термин „здравоохранение“ в нашей стране появился только после Октябрьской революции. До революции нынешнее Министерство здравоохранения носило название „Департамент народного здравия“. До сих пор The World Health Organization часто неправильно переводится как Всемирная организация здравоохранения (найдите „охрану“ в написании по-английски!)» .
Внутреннее пространство воспринимается как пространство опасное, не предсказуемое, а, следовательно, с трудом контролируемое. Отсюда страх перед Внутренним опытом. Разум и Воля (понимаемая как владение, принуждение) «изгоняют» Чувствование.
Картезианское отношение к телу как к объекту пронизывает все стороны жизни общества и отдельного человека.
Анализируя современную социальную реальность И. М. Быховская отмечает, что исторически закрепленная рационалистическая традиция противопоставления «человека телесного» и «человека духовного» постоянно воспроизводится в современной социальной практике, в том числе, в различных институтах социализации (в семье, системе образования, воспитания), которые закрепляют и продолжают эту традицию. Телесно-физические качества человека являются объектом воздействия сами по себе, а интеллектуальные и духовные сами, без какого-либо серьезного сопряжения их между собою.
Такая ситуация, по мнению И. М. Быховской, имеет совершенно противоположные по характеру следствия как для общества, так и для отдельной личности. С одной стороны, таким следствием является широко распространенный «телесный негативизм» , который проявляет себя в самых разных сферах и областях начиная от равнодушия к собственному физическому здоровью (конечно, до момента его потери!), недоверия к своему телесному опыту, «голосу тела», который немногие умеют услышать и понять, и до пуританского взгляда на те произведения искусства, в которых, по Бодлеру, воспевается «величье наготы» (речь идет, естественно, именно об искусстве, а не о порноремесле). Проявление во всем этом девальвации культурного статуса, смысла человеческого тела , его физического имиджа обнаруживает себя и в отсутствии или же крайне низкой актуализации установки на культивирование (от слова «культура», но не «культ») своих телесных, двигательных качеств.
Другим, противоположным по своей аксиологической направленности, следствием несопряженности телесного и духовного начал в человеке является своего рода соматизация человека , возведение в абсолют его «мускульно-мышечных» или «бюстово-ягодичных» достоинств. Однако, лишь при очень поверхностном взгляде эту тенденцию можно рассматривать как противоположную первой, т. е. уничижительно-пренебрежительному отношению к телесности. По сути, и первый, и второй подходы имеют единую основу априорное исключение телесного бытия человека из социокультурного пространства, вынесенность телесно-физических характеристик человека за рамки процесса культурной социализации .
"Устойчивость традиции разъединения телесности и культуры пишет И. М. Быховская, разведения «внутреннего» мира человека и его внешней явленности, влечет за собой, …формирование «одномерной», «частичной» личности, у которой «голова» и тело находятся в дисбалансе, ведущем к существенному ограничению в раскрытии, использовании всего того человеческого потенциала, который дан каждому из нас…Отсутствие телесной культуры является одним из проявлений «ущербности» культурного развития личности в целом, предполагающего в качестве одного из базовых принципов воспроизводство целостности человека, сопряженности его оснований и начал" .
«Ментальная близость» и дистанцирование от тела проявляются в том, что отношение к телесным феноменам в различных сферах жизни и деятельности избыточно опосредовано представлениями о телесной норме. А. Ш. Тхостов вводит понятие «избыточность опосредования» и утверждает, что избыточность означаемых не улучшает произвольную регуляцию, а напротив, значительно ее ухудшает . В основе большого класса расстройств, по его мнению, лежит дисфункция произвольной регуляции, связанная с нарушением опосредствования натурального организмического акта вследствие избыточности семиотических связей. В качестве одного из них он рассматривает функциональную психогенную импотенцию, широко распространенную в нашей культуре и отсутствующую в культурах, где не существует столь жестких, как в европейской требований к произвольной регуляции сексуальности.
В западной культуре человек оказывается чрезвычайно зависимым от представлений о норме, должен усилием воли делать то, что нужно, причем нужно с точки зрения оценивающего Другого. Делать независимо от своих возможностей и истинных потребностей, часто не осознавая их. Возможно для того, чтобы доказать Другому и через это себе самому, что он способен к полному контролю, и поэтому состоятелен, так как приближается к картезианскому канону (Картезианский субъект субъект способный на абсолютный контроль (В. А. Подорога). Телесные знаки в нашей культуре приобретают значения, ориентированные на того, кто видит и оценивает со стороны, исходя из принятого, без учета внутреннего состояния. Следовательно, помимо избыточности означаемых имеет место односторонний локус означивания: семантика знаков ориентированна не на живое тело, а на тело-машину.
Разъединенность духовного и телесного проявляется в разных сферах межличностных отношений. Анализируя отношения между полами, Р.Мэй пишет: «В викторианскую эпоху человек искал любви без секса; современный человек ищет секса без любви» . Исключение эроса влечет за собой уменьшение жизненности, энергонаполненности, как отдельной личности, так и общества в целом. Р.Мэй предельно четко характеризует современное пуританство: «Я считаю, что нынешнее пуританство состоит из трех элементов. Первый элемент отчуждение от тела. Второй отделение эмоции от разума. Третий использования тела как машины» .
Чрезмерно большая ориентация на знаемую, рациональную норму, являющаяся результатом дистанцирования от телесного опыта ("каким должны быть мужчина, женщина, ребенок определенного возраста) характерна для супружеских и родительско-детских отношений. Следствием является не умение почувствовать индивидуальную неповторимость Другого, его состояние здесь и теперь, что приводит к непониманию и отчужденности. (А ведь «счастье это когда тебя понимают», как говорит известный герой). Родитель, руководствующийся, прежде всего, рациональными предписаниями и не умеющий доверять своим чувствам, транслирует культуру недоверия, ломает ребенка, нуждающегося в мудром сопереживании. В основе многих психологических проблем детей и взрослых лежит не способность их родителей любить Другого таким, какой он есть и искренне выражать свою любовь.
Пренебрежение живым целостным человеком характерно и для современной медицины. А. В. Тхостов пишет: «Медицина длительное время ориентировалась на поиски объективных причин болезни и максимальное устранение субъекта из процесса лечения. Несмотря на все ее уверения, что нужно лечить больного, а не болезнь, она практически стала организмо-центрированной… Однако многие заболевания оказываются принципиально не излечимы с подобных манипулятивных позиций».
И еще один важный аспект проблемы: не чувствующим человеком легко манипулировать, навязывать ему кому-то нужные значения, вовлекать его в «чужие игры». Отношение к телу как к объекту есть способ не чувствовать себя, не осознавать свои истинные потребности и стремления, а значит жить чужим умом, быть в большей степени управляемым извне, легко поддаваться внешним влияниям. Данное положение имеет огромное значение для личностного развития человека: отношение к собственному телу как объекту тормозит развитие самоидентичности.
Таким образом, отношение к телу как к объекту, создает многочисленные проблемы, как для отдельного человека, так и для общества в целом. Обращение к живому телу (телесности) продиктовано необходимостью возвращения к человеку чувствующему, целостному, являющемуся создателем и носителем неповторимых личностных смыслов, делающему самостоятельные выборы. Живой целостный человек нуждается в отношении к себе как к живому.
Сфера «между» и пространство телесности
Картезианский образ тела наше настоящее. Теперь обратимся к логико-историческому контексту, в который это настоящее вписано. Иными словами к логике процесса развития, помогающей понять место настоящего во временной триаде: прошлое настоящее будущее.В рамках данной статьи не возможен развернутый исторический экскурс в историю понимания взаимоотношений душа тело. Я ограничусь выделением трех этапов, соответствующих общему закону развития, сформулированному В. С. Соловьевым. Каждое развивающееся образование, по В. С. Соловьеву, проходит в своем развитии три обязательных этапа:
- Первичная, мало определенная и слитная целостность;
- Дифференциация, расчленение первичной целостности;
- Внутренняя свободная связанность (солидарность), органическое свободное единство всех элементов внутри целого (цит. по Чуприковой Н. И. ).
Соответственно можно выделить 3 этапа в генезисе представлений о взаимоотношениях души и тела, характерных для западной культуры:
- Слитно-целостное понимание души-тела;
- Антагонистическое, инверсионное понимание взаимоотношений души-тела, при котором устанавливается властное доминирование одного из полюсов. При этом тело понимается как машина, которая должна быть исправна, эстетически привлекательно выглядеть и, как следствие, давать результат продукт ее обладателю;
- Третий этап предполагает понимание органического свободного единства души и тела, их взаимопроникновение и взаимоуслышанность.
Каким образом возможен переход со второго этапа на третий, от картезианского отношения к телу к живому телу, от внутриличностной властной иерархии к свободному единству?
Для картезианского мышления душа и тело выступают как полюса дуальной оппозиции. При этом душа и тело воспринимаются дискретно, между ними пустота. Для воссоединения полюсов дуальной оппозиции необходимо обращение к сфере «между». Слово «между» имеет два принципиально разных значения:
- служебное, наиболее часто используемое.
- именное, обозначающее содержание, определенным образом располагающееся относительно полюсов дуальной оппозиции и связывающих их в пространственную непрерывность. В этом значении слово «между» имеет огромную содержательную насыщенность и все чаще используется в науке и искусстве.
Между Душой и Телом, Жизнью и Смертью, Добром и Злом и, по сути, между любыми полюсами дуальной оппозиции, которые противостоят друг другу. Человеческое мышление антонимично, что отражается в языке. «Хорошо» возникает из сопоставления с «плохо»; «добрый» понятен из сопоставления со «злым» и т.п. Мы изначально оказываемся в пространстве дуальной оппозиции, она нам транслируется в детстве. Вспомним строки Маяковского:
Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
Изначально имеется дуальная оппозиция, но вопрос в том, какова дальнейшая логика взаимоотношения полюсов дуальной оппозиции. Эта логика может быть разной и иметь разные задачи. Она может быть направлена на поддержание и воспроизведение ранее сложившихся смыслов, а может быть нацелена на переосмысление, создание новых смыслов. Первый процесс называется инверсией , второй медиацией . Это два принципиально разных по своей сущности процесса, характеризующих любую человеческую реальность, будь то отдельно взятый человек, социальная группа, общество в целом (А. С. Ахиезер ).
Остановлюсь подробнее на механизмах инверсии и медиации. Инверсия характеризуется абсолютизацией полярностей и игнорированием сферы между ними. Инверсия ориентирована на воспроизводство мира в ранее сложившихся формах. Инверсионный механизм хорош в стабильной, неизменной ситуации. Когда же происходит изменение ситуации, то он оказывается недостаточным и как следствие происходит накопление дискомфорта, которое может вызвать инверсионный взрыв. Например, если рассматривать общественные процессы, то рост дезорганизации в обществе, рост массовых фобий может вызвать взрыв, выражающийся в форме бунта, массовых беспорядков направленных против «носителей зла». На уровне отдельного человека такое накопление приводит к неадекватному поведению, возникновению психосоматических заболеваний, разрушению целостности.
Инверсия есть беспроблемное восприятие человеческой реальности. Она не терпит неопределенности. В ней все определено: это-зло, это-добро и т.п.
Инверсии противостоит медиация, которая нацелена на выход за рамки сложившейся логики, на выход к новым формам человеческой реальности. Медиация необходима в меняющемся мире. Ее характеризует проблемное отношение к человеческой реальности. Медиация снимает раскол между полюсами дуальной оппозиции и формирует, по выражению А. С. Ахиезера, срединную культуру .Медиация не абсолютизирует полярности и внимательна к пространству между ними.
Сфера «между» это пространство переосмысления, пространство новых возможностей, в котором может возникнуть что-то третье вбирающее в себя как первое, так и второе. Переосмысление идет через взаимопроникновение полюсов (это диалог полюсов). Осмысляемое явление находится в сфере между полюсами дуальной оппозиции, существует на границе (А. С. Ахиезер), смысл возникает между смыслами (М. М. Бахтин).
В данной логике понятие «телесность», отражающее осознание соответствующей реальности, приобретает отчетливый онтологический статус.Его возникновение возможно рассматривать как результат медиативного процесса, диалога между полюсами дуальной оппозиции душа-тело. Понятие «телесность» обозначает пространство телесности, которое является пространством срединной культуры и находится в сфере между (см. рис.1) .
Рисунок 1. Пространство телесности между душой и телом.
В пространстве телесности становится возможным взаимопроникновение души и тела. Живое тело, «мое тело» наполнено «Я-чувством». «Мое тело» пишет Подорога,- есть первичный образ тела (не "сознание, «модель» или "схема), тела неустойчивого, меняющегося в своих экзистенциальных границах и всегда как бы балансирующего на тонкой преграде между «моим» и «другим» .
Обратимся вслед за В. А. Подорогой к размышлениям об образе тела А. Бергсона. «…тот особый образ, который держится среди других образов и который я называю своим телом , пишет Бергсон, представляет в каждое мгновение… поперечный разрез всемирного осуществления, становления (devenir). Это, стало быть, место прохождения полученных и отосланных движений, соединительная черта между вещами, на которые действую я, и вещами, которые действуют на меня, одним словом, местонахождение чувственно-двигательных явлений" . „Теперь мы можем говорить о теле как подвижном пределе между будущим и прошедшем, как о движущемся острии, которое наше прошедшее как бы толкает непрестанно в наше будущее. Мое тело, взятое в единый миг есть только проводник, вставленный между влияющими на него предметами и предметами, на которые оно действует; наоборот, переставленное в текущее время, оно всегда находится в определенной точке, где мое прошедшее только что закончилось действием“ .
Вчитываясь в А. Бергсона, В. П. Зинченко задается вопросом: не напоминает ли тело-образ А. Бергсона душу-образ совокупности всего пережитого М. М. Бахтина? В. П. Зинченко обращает наше внимание на то, что Бергсон наделяет тело-образ целым рядом свойств, которые принадлежат (или приписываются?!), в зависимости от предпочтений автора, то ли психике, то ли душе. „Можно сказать, пишет он,- что Бергсон одушевляет тело и ведет речь о живом, наделенном чувственно-двигательными способностями, одушевленном теле, помещая его в пространства между: между вещами, между прошедшим и будущим. Тело оказывается в том месте, где искали место души“ .
Бергсоновское понимание тела как образа, В. А. Подорога называет мыслимым телом или телом трансцендентальным. Размышляя над сутью трансцендентального тела, В. П. Зинченко пишет: „Не является ли плотью, тканью такого мыслимого тела биодинамическая ткань живого движения, чувственная ткань образа, которые в свою очередь пронизаны аффективной тканью? При таком решении анатомическое тело остается телом, душа остается душой, а пространство между ними заполняется имеющей отчетливый онтологический статус реальностью“ . Эта реальность „соткана“ из живых движений, соединяющих в себе психологическую сущность и материальную форму. В пространстве телесности преодолевается дуализм души-тела, происходит, по выражению В. П. Зинченко, одухотворение тела и овнешнение души.
»Оппозиция душа-тело, пишет В. П. Зинченко, подобна оппозиции Пророда Дух, которые на протяжении истории человеческой мысли неоднократно соединялись и разъединялись… Можно предположить, что «примирение» произойдет в пространстве между, где встречаются деятельный дух, страждущая душа с живыми, одушевленными движениями тела [ , с.46].
Телесность в свете развития представлений о научном познании
Антикартезианские тенденции существенно изменяют представления об «истинно научном познании» и ставят перед наукой новые задачи.
Классический рационализм предполагал, что для науки есть одна объективная, независящая от субъекта познания истина. Идея «физического тела» как некоторого обобщенного представления о теле с объективной научной точки зрения существует в рамках данной установки.
Декартовское представление о теле как теле-машине, теле-объекте разделило тело как таковое на множественную объектность. Тело изучают этнография, социология, психология, физиология, анатомия, гистология, биохимия, биофизика и другие науки, каждая из которых имеет свой «объект», представляющий тело с дисциплинарной точки зрения. Дисциплинарные естественно-научные дискурсы теряют целостность живого.
В. А. Подорога пишет: «Живое тело существует до того момента, пока в действие не вступает объективирующий дискурс… Это может быть биологический, физический, физиологический, лингвистический, анатомический дискурс; и каждому из них требуется некое идеальное состояние тела, которое не имеет ничего общего с целостными, я бы сказал, „субъективными“ переживаниями телесного опыта. Если человеческое тело и обладает редким по своему многообразию собранием степеней свободы, то объективирующие дискурсы ставят своей задачей их ограничивать и упразднять. Тело, объективированное в границах исследовательского проекта тело без внутреннего , „глухая, ровная поверхность“ как говорит Бахтин….Тело объект по определению должно быть …не имеющим собственного языка. Более того, оно полностью находится во власти языка объективирующего его. Когда тело становится объектом а это значит, попадает в сферу действия той или иной естественно-научной стратегии… в нем не остается ничего собственно телесного. Тело, которое не может быть телесно пережито, в сущности, и не может быть телом, подобное тело не существует. В таком случае то, что я понимаю под телом, не может быть объективировано и обретается вне определенного горизонта знания , который зависит от субъектно-объектой познавательной формулы» .
Следовательно, живое тело, телесность, являясь специфическим, особым предметом исследования, нуждается в специфическом, соответствующем методе познания-понимания. Поскольку естественно-научный метод считался до последнего времени единственно возможным, то все, что не поддавалось его скальпелю вообще изымалось из категории исследуемого. Возможно, именно поэтому телесность до последнего времени оказалась теоретически невидимой. Живое тело не может быть исследуемо сторонним наблюдателем, но только соучастником жизненного процесса.
Однако ситуация в науке существенно меняется. На смену классическому подходу приходит неклассический подход, который в качестве необходимого компонента объективного исследования ввел дополнительные требования: описания метода проведения исследования и учет специфических особенностей используемого языка. «Учет метода и языка как условий объективного описания тела означает рефлексию на способ контакта исследователя со своим объектом, способ его касания. Обнаруживается не только тело испытуемое, но и тело испытующего точнее его „живое тело“, включенное в исследовательскую ситуацию…. Идея классического отстраненного наблюдателя соучастника , который своим действием касается исследуемого тела и осуществляет тем самым актуализацию некоторой специфически объективируемой презентации» пишут Л. П. Киященко и П. Д. Тищенко .
Тело, которого касается исследователь, есть тело другого человека, а следовательно оно имеет специфический статус, как предмет исследования, Исследователь, как пишут Л. П. Киященко и П. Д. Тищенко, обязан учесть собственно-человеческое качество свободную волю того, для кого исследуемое тело является его собственным телом. Исследователь, не переставая играть роли наблюдателя и соучастника, вынужден принять на себя еще и иную роль субъекта моральных отношений. Когнитивные практики получения научных знаний достраиваются коммуникативными практиками личностного общения . Такое достраивание характерно для науки постнеклассического типа, по терминологии В. С. Степина. Наука постнеклассического типа характеризуется явным включением в свою структуру рефлексии на «ценностно-целевые установки» познавательной деятельности.
И еще один важный аспект: признание исследуемого тела в качестве тела другой личности вносит отсутствующую в классическом сознании амбивалентность в оценке познавательного акта. Познание не есть благо само по себе оно может быть источником риска для другого, может нанести ему вред .
Таким образом, к концу 20 века представление о научном знании меняется, возникают когнитивно-коммуникативные стратегии научной деятельности, растет влияние этического дискурса.
Что касается отечественной психологии, то требования постнеклассического характера в ней звучали и в первой половине 20 века в работах П. Флоренского и А. А. Ухтомского. По словам П. Флоренского,- «Познание есть реальное выхождение познающего из себя или что то же,- реальное вхождение познаваемого в познающего реальное единение познающего и познаваемого» (цит. по ). А. А. Ухтомский пишет: "Каждый человек, индивидуально существующий перед нами, есть новый, вполне исключительный случай! Никем он не может быть заменен, он совершенно единственное «лицо» (цит. по ).
Телесность Другого не может быть понята в третьем лице, а лишь в процессе личностного общения, которое, по словам Ф. Е. Василюка, становится новой формой исследования. Ф. Е. Василюк пишет: «Категории общения суждено… выступить в качестве первичной категориальной формы, вокруг которой будет кристаллизоваться новая парадигма. Причем сам статус этой категории в новой парадигме принципиально изменится, она станет не только понятийной фиксацией основного содержания исследования, но будет выражать еще и суть новой формы исследования, в соответствии с которой субъект и объект психологического познания изначально связаны не только гносеологическим отношением, но объединены всегда реальной формой общности и общения, так что психологическое познание человека в „третьем лице“ становится периферическим и подчиненным методом, а в центр становится познание человека в форме Ты» .
Таким образом, живое тело (телесность в нашей терминологии), которое и является собственно человеческим телом, наполненным субъективностью, потоком внутренних телесных переживаний, Я-чувством принципиально не может быть понято как объект, при таком подходе оно с необходимостью превращается в тело-объект. Живое тело может быть понято только изнутри, на его собственном не привнесенном извне языке. И если живое тело осознается через «Я ощущение», «Я чувствование», то, по- видимому, оно может быть понято через «Ты-ощущение», «Ты-чувствование». «Существовать, присутствовать значит ощущать,- пишет Подорога,- но это не голое, чистое ощущение, а пережитое ощущение близости с собой и с миром, пережитое посредством собственного тела» .
Такой постнеклассический способ научного познания во многом сближается с познанием, осуществляемым в искусстве. Приведу вслед за В. П. Зинченко слова Г. Шпета, считавшего, что искусство есть познание цельного предмета цельной личностью в их взаимной характерности . В произведении искусства воплощается субъективность его создателя, аффективно-смысловая наполненность его души. Именно благодаря этому телесному воплощению она может быть понята Другим в результате процесса познания-сопереживания, со-чувствования. Предмет искусства телесен.
Движение, выражающее человеческую телесность так же является своего рода символом Внутреннего, так как наполнено аффективно-смысловым содержанием и вместе с тем материально, осязаемо, видимо. Понимание движения и через него Внутреннего сродни пониманию произведения искусства. Оно также требует со-чувствования, можно сказать «слиянного общения», по терминологии Г. Шпета. Такой метод познания Другого с необходимостью требует от исследователя развитого самочувствования.
Новая реальность ставит перед психологией новые задачи и требует переосмысления ранее сложившихся позиций.По мнению Б. Д. Эльконинавозникает необходимость нового самоопределения культурно-исторической концепции и теории деятельности и соответственно их центральных концептов опосредования и действия .
Культурно-историческая теория в том виде как она была создана, в начале 20 века являлась продуктом своего времени и ставила перед собой вполне картезианские задачи. Д. Б. Эльконин пишет: «Л. С. Выготским была заявлена, а его последователями удержана та позиция, из которой осмыслялись, т. е. мысленно и экспериментально моделировались, события человеческой жизни. Эта позиция была задана как управление поведением. Управление выступило как придание поведению формы произвольности, каковая, в свою очередь, была представлена как форма действия » . Анализируя социально- культурный контекст возникновения такой позиции, Б. Д. Эльконин отмечает, что представление о действии как форме активности диктовала схема трудового акта, интрига которого мыслилась как рассогласованность средств и требований (задач). Интимно-субъективные компоненты поведения при этом оказывались вторичными и несущественными моментами порождения действия. «Похоже, однако, пишет Б. Д. Эльконин, что социокультурная (а может быть даже и антропологическая) ситуация изменилась. Симптомом и показателем этого изменения является настойчивое акцентирование идентичности и самоидентичности как ядерных характеристик человеческого существования. Согласования средств и целей здесь недостаточно. Другой, более глубокий разрыв задает интригу идентификации. Это разрыв между построением действия (вместе с его целями и результатами) и „присутствием“ этого действия в мире, трудность отражения человеку его действенного начала».
Пробно-поисково-ориентирующая «сторона» действия, по мнению Б. Д. Эльконина, должна быть связана не только с анализом его внешних усилий, но и с приведением органа и тела в состояние «живости», чувствительности…Представление о «самочувствовании» становится основанием психологии телесности. «Ощущать, чувствовать себя это и значит быть» утверждает Б. Д. Эльконин . Сравним с известным изречением: «Я мыслю следовательно, я существую». Речь, безусловно, не идет о перемещении с одного полюса дуальной оппозиции на другой. Речь идет о «реабилитации» чувствования для осуществления возможности переосмысления в сфере между мыслью и чувством, преодоления дистанцирования от собственного тела, разрыва между «мной мыслящим» и «моим телом». Образ тела, наполненный чувством (в отличие от схемы тела)позволяет выстраивать знание на основе внутреннего опыта. Самочувствование действующего, его интимно-субъективный слой, т.е. телесность приобретает особое значение в контексте становления самоидентичности.
Выводы
- Для картезианского сознания современного человека характерны оппозиции душа тело, ментальное чувственное. Тело понимается как тело-машина, а разуму отводится роль властелина и контролера тела. Живое человеческое чувствующее тело «выбрасывается за борт рационалистической целесообразности». Тело рассматривается как механическая конструкция, отдельные части которой становятся объектом изучения различных наук.
- Картезианское отношение к телу как к объекту пронизывает все стороны жизни общества и отдельного человека медицину, межличностные и внутриличностные отношения, вызывает отчуждение людей как друг от друга, так и от себя самих. Между мной и моим телом оказывается мое знание схемы тела и знание телесной нормы. Избыточная опосредованность вытесняет внутренний опыт и делает человека зависимым и легко управляемым.
- Развитие картезианской картины мира актуализировало антикартезианские тенденции. Живой целостный человек нуждается в отношении к себе как к живому. Задача заключается в том, чтобы «… научиться размышлять о собственном телесном опыте не с позиции нормативной установки, а с позиции нашей возможности быть в живом мире в качестве живого, обладающего телом и „духом“ существа» (В. А. Подорога). Возникают психотерапия и телесные практики, являющиеся альтернативой картезианскому подходу и привлекающие все большее количество людей. Смысл телесных практик заключается в «собирании» человеческой целостности, интегрировании души и тела, трансформации тела-объекта в живое тело. Они оживляют сферу «между» душой и телом, в которой становится возможным живое переосмысление человеком Себя в Мире, достижение самоидентичности.
- Антикартезианские тенденции проявляются в изменении представлений о научном познании. Наука стремиться искать пути целостного познания, позволяющие включить живого человека в предметное поле своих исследований. Наука классического типа трансформируется в науку неклассического типа, а затем постнеклассического типа, для которой характерно включение в свою структуру рефлексии на «ценностно-целевые установки» познавательной деятельности. Идея классического отстраненного наблюдателя дополняется идей исследователя как соучастника, а исследуемый вместо объекта в третьем лице, занимает место «Ты». Такой подход делает возможным исследование человеческой телесности.
- Возникает необходимость переосмысления центральных концептов культурно-исторической концепции и теории деятельности опосредования и действия. В контексте становления самоидентичности особое значение приобретает самочувствование действующего, его интимно-субъективный слой, т.е. телесность.
Таким образом, возникновение предметного поля психологической науки «телесность» обусловлено логикой культурно-исторического процесса.
Литература
- Ахиезер А. С. Проблема переходов в социокультурных процессах.//Мир психологии. 2000. №1.
- Баскаков В. Ю. Терапия танатоса.// Психология телесности между душой и телом. Ред-сост. В. П. Зинченко, Т. С. Леви. М., 2005, с.486507
- Бергсон А. Материя и память. СПб., 1914.
- Быховская И. М. Аксиология телесности и здоровье: сопряженность в культурологическом измерении.// Психология телесности между душой и телем. Ред-сост. В. П. Зинченко, Т. С. Леви. М., 2005, с.5367
- Василюк Ф. Е. К проблеме единства общей психологии.// Труды Ярославского методологического семинара. Том 2. Предмет психологии. 2004. с.1231
- Декарт Р. Избранные произведения. М.,1950
- Зинченко В. П. Психология на качелях между душой и телом.// Психология телесности между душой и телом. Ред-сост. В. П. Зинченко, Т. С. Леви. М., 2005, с.1052
- Зинченко В. П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М., 1997.
- Зинченко В. П. Алексей Алексеевич Ухтомский и психология (К 125-летию со дня рождения) // Вопросы психологии. 2000. №4. С. 7997.
- Зинченко В. П.Психологические аспекты влияния искусства на человека (опыт понимания). //Культурно-историческая психология. 2006. №4.
- Киященко Л. П., Тищенко П. Д.. Тело как сеть: транс-гуманистический вызов транс-дисциплинарный ответ. // Междисциплинарные проблемы психологии телесности. Ред сост. В. П. Зинченко, Т. С. Леви, М., 2004, с.6779
- Мэй Р. Любовь и воля. 1997
- Подорога В. А. Феноменология тела. М.1995
- Подорога В. А. Полное и рассеченное.//Психология телесности между душой и телом. Ред-сост. В. П. Зинченко, Т. С. Леви. М., 2005, с.67138
- Психология телесности между душой и телом. // Психология телесности между душой и телом. Ред-сост. В. П. Зинченко, Т. С. Леви. М., 2005
- Тхостов А. Ш. Психология телесности. М. 2002
- Хоружий С. С. О старом и новом. Санкт-Петербург, 2000. С. 372.
- ЧуприковаН. И. Идеи общих законов развития в трудах русских мыслителей конца 19 - начала 20 вв.// Вопросы психологии, 2000, №1.
- Эльконин Б. Д. Самоощущение. Опосредствование. Становление действия.//Психология телесности между душой и телом. Ред-сост. В. П. Зинченко, Т. С. Леви. М., 2005, с.471485
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований. Проект № 070600076.
Дэвид Маиумото
Эмоции как важнейшая часть нашей жизни привлекали к себе внимание множества кросс-культурных исследований в области психологии. Рассматриваемые в данной главе доказательства универсальности мимического выражения эмоций, бесспорно, на сегодняшний день представляют собой одно из важнейших открытий в истории кросс-культурной психологии. Эмоции дают нам ключ к пониманию познания, мотивации и человека в целом и в этом качестве представляют собой богатую и разнообразную сферу кросс-культурных исследований.
В этой главе Мацумотодает общее представление о кросс-культурной работе, которая ведется в данной сфере. Начиная с рассмотрения исследований эмоций и культуры в исторической перспективе, он обращает особое внимание на актуальность и значимость данного направления в современной психологии. Действительно, данное направление заслуживает внимания, поскольку почти все современные исследования эмоций в рамках традиционной психологии берут свое начало в кросс-культурных исследованиях, доказывающих универсальность проявления эмоций.
Далее-Мацумото дает краткий обзор кросс-культурных разработок различных аспектов эмоций, в том числе способов их выражения, антецедентов, оценки, субъективных переживаний, концепций эмоций и их физиологических коррелятов. Данный обзор убедительно показывает, что все аспекты, связанные с эмоциями, достаточно глубоко исследовались в условиях разных культур на протяжении последних двадцати лет, в результате чего были собраны обширные новые данные.
Основная часть обзора, представленного в этой главе, посвящена работам, связанным с распознаванием эмоций и суждениями о них в разных культурах, поскольку именно эти проблемы хорошо изучены. Мацумото подробно описывает сходства и различия эмоциональных проявлений в разных культурах, описанные в литературе по кросс-культурным исследованиям. Он, в частности, придает большое значение предпринятым в последних исследованиях попыткам не только подтвердить наличие культурных различий в оценке (интенсивности) эмоций, но и проверить различные гипотезы, касающиеся их причин; в связи с этим в данной статье приводится оценка параметров культурной изменчивости. Данные методологические изменения соответствуют эволюции теории и методов в кросс-культурной психологии, о которых говорилось во введении и в других главах. Указанная эволюция происходит по мере того, как исследования заменяют общую, абстрактную концепцию культуры четко опреде-
ленными, поддающимися оценке конструкциями, которые можно проверить с точки зрения их влияния на культурные различия.
Глава заканчивается подробным обсуждением четырех направлений будущих исследований в области культуры и эмоций. Важной составляющей данного раздела является идея интеграции или необходимости включения вопросов, связанных с контекстом, в исследования и теоретические изыскания по проблеме «культура и эмоции», а также необходимости связать процесс оценки эмоций с другими психологическими процессами. Как полагает Мацумото, многие области психологических исследований разобщены, вследствие этого мы обладаем сведениями, касающимися оценки эмоций в вакууме искусственно созданных лабораторных условий, но относительно немного знаем о том, как связаны эмоции с другими психологическими процессами реальной целостной личности. Хотя лабораторные эксперименты, без сомнения, важны, мы должны вновь собрать Шалтая-Болтая. Поскольку кросс-культурные исследования в данной области и в других областях непрерывно развиваются, включая все новые темы, методы и дисциплины, они должны сыграть главную роль в том, чтобы раздробленное академической наукой вновь обрело целостность.
Есть все основания считать эмоции одними из самых важных аспектов нашей жизни, и психологи, философы и специалисты по общественным наукам занимаются ими долгие годы. Эмоции наполняют нашу жизнь смыслом, мотивируют наше поведение и накладывают отпечаток на наше мышление и процесс познания. Эмоции - настоящее психологическое горючее для роста, развития и деятельности.
В этой главе я рассматриваю некоторые из важнейших кросс-культурных исследований, связанных с эмоциями. Я начинаю с рассмотрения изучения эмоций в связи с культурой в исторической перспективе и анализа влияния данных исследований на современную психологию. Затем я даю очень краткий обзор широкого круга кросс-культурных исследований эмоций, включая выражение эмоций, их восприятие, их переживание, то, что предшествует эмоциям (антецеденты), оценку эмоций, их физиологию, а также концепции эмоций и их дефиниции. Затем я подробно рассматриваю одно из направлений исследований - кросс-культурны с исследования суждений об эмоциях, освещая то, что известно на сегодняшний день. Отталкиваясь от изложенного в этой связи, прежде чем завершить главу, я вношу четыре предложения, которые касаются будущих исследований в данной области. Моя цель - не только дать читателю возможность познакомиться с подробным обзором данного направления психологии, но и побудить ученых к более широкому видению проблем в размышлениях об этой и прочих научных сферах.