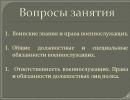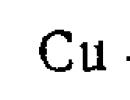Евгений Савойский — генералиссимус Австрийской армии. Величие полководца. Молодые годы Евгения Савойского Принц евгений савойский и его войны
По мнению моему, совершенный герой; нет таких добрых качеств, которых бы в нем не было: он откровенен, учтив, прост в обращении, не теряя, однако же, приличия, и горд без тщеславия; он не способен обманывать никого, и каждому слову, исходящему из уст его, можно верить, как самой истине; он красноречив, знает науки и читал много; говорит совершенно на пяти языках: латинском, французском, немецком, италиянском и испанском. Ненависть ему неизвестна, и угнетаемая добродетель всегда найдет в нем защитника. На войне он всегда весел, бдителен, внимателен и ровен, даже находясь в жесточайшем огне. Никто лучше его не знает военного искусства: это доказывают десять сражений, им выигранных. В политических делах он проницателен и изъясняется хотя в немногих словах, но очень ясно. Он ненавидит комплиментов и не терпит благодарности за оказанную им милость. Будучи справедлив в высочайшей степени, он не отречется дать удовлетворение каждому честному человеку, ежели сей, думая быть от него оскорбленным, потребует оного. Словом, это совершенный человек во всех отношениях."
ЗАПИСКИ О ПРЕБЫВАНИИ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ РОССИЙСКОМ ДВОРЕ В ЗВАНИИ ПОСЛА КОРОЛЯ ИСПАНСКОГО <...... >
В потоке книг и сочинений (до сих пор их насчитывалось 1800), которые славили Евгения на протяжении последних трех столетий, нет ни малейшего указания на личную жизнь знаменитого полководца. Тому есть одна очень простая причина: после Евгения не осталось ни одного личного письма. Его корреспонденция касается исключительно войны, дипломатии и политики. Даже в архивах известных современников, которые переписывались с ним, нельзя обнаружить ни следа личных сообщений. Кажется, что личной, интимной стороны жизни Евгения просто не существовало. Нам осталось только железное лицо солдата, дипломата и государственного деятеля. Практически нечеловеческий образ героя, не оставляющий ни капли места для чувств, слабостей или же сомнений.
Женщины? Похоже, этот воинственный монолит никогда не прикасался ни к одной из них. Евгений, который был одним из самых богатых и уважаемых людей своего времени, никогда не был женат. Хотя некоторых женщин связывают с ним, в первую очередь графиню Элеонору Баттьяни, которая считалась его «официальной любовницей» с 1715 года, однако то, что осталось из ее переписки с Евгением, не дает ни малейших намеков на интимную связь. Быть может, женский пол был скорее нужен Евгению, чем приятен: похоже, существуют документальные подтверждения тому, что он, как пишет трубочист в декабре 1720 года, поселил графиню Пальфи, возлюбленную Иосифа, на Химмельпфортгассе (то есть неподалеку от своего собственного дворца) для того, чтобы иметь возможность контролировать ее (см.: Макс Браубах. Принц Евгений Савойский . Вена, 1964, т. 3, с. 21 и далее).

При этом точно известно, что детство и юность Евгения, проходившие во Франции, протекали неупорядоченно, его воспитанием занимались мало, более того, он рос практически без надзора. Английский историк Николас Хендерсон пишет: «Точно известно, что в ранней юности Евгения были темные стороны. Он общался с небольшой группой женоподобных мужчин, к которой принадлежали такие опустившиеся субъекты, как молодой аббат де Шуаси. Он всегда ходил в женской одежде и время от времени надевал экстравагантные серьги и парики для пожилых женщин» (Н. Хендерсон. Принц Евгений Савойский. Лондон, 1964, с. 21). Из писем невестки Людовика XIV, Лизелотты Пфальцской, графини Орлеанской, следует, что гомосексуальные приключения Евгения, о которых говорит аббат Мелани, соответствуют этому времени. Лизелотта лично знала Евгения, когда он еще жил в Париже. Ее тетка, курфюрстша София Ганноверская, рассказывала ей, что у Евгения были прозвища вроде Симона или Мадам Л"Ансьен; что молодой Савойский по отношению к ровесникам «действовал как дама»; что во время его эротических похождений его сопровождал принц Туреннский; что обоих звали «всеобщими шлюхами»; что Евгений никогда не увивался за дамами, поскольку молодые пажи «были ему милее»; что церковная карьера, которую он начал, оказалась для него закрыта из-за его «испорченности» и что, вероятно, он забудет в Германии «искусство», которому выучился в Париже.
<........ >
Как оказалось, Евгений Савойский - это не только сказочный Бельведер.
Зимний дворец (городской дворец) принца Евгения Савойского - это значительный дворец в стиле зрелого барокко в Венском Внутреннем городе (1-ый район), переулок Химмельпфорт 8. Дворец служил полководцу главным образом как зимняя резиденция, в то время как лето он проводил в замке Бельведер.
В исторических помещениях в бельэтаже были, вплоть до начатой в 2007 генеральнореставрации городского дворца, располагалос`министерство финансов. В ходе этих работ парадные залы реставрировались в соответствии с оригиналом и предстали в оформленном для принца Евгения барочном богатстве. Министерство передало осенью 2013 раньее использованные им парадные залы федеральному музею галерее бельведер, которая, начиная с 350-ого дня рождения принца, открывает доступ общественности во дворец.

Городской дворец или зимний дворец принца Евгения Савойского в сегодняшнем (до 1857 был окружен городской стеной) старом городе Вены было основное местожительство успешного полководца. Здесь находились самые большие части знаменитых коллекций хозяина, в том числе чрезвычайно обширная библиотека.
Городской дворец служил, прежде всего, также представительным целям. Принц Евгений исполнял высокопоставленные обязанности в габсбургской монархии, - в том числе он был в 1703-1736 президентом придворного военного совета и в 1714-1724 формально исполнял обязанности наместника австрийских Нидерландов. Поэтому он должен был давать соответствующие приемы и аудиенции.
С градостроительной точки зрения дворец на особом положении, так как принц Евгений не выбирал соответствующий социальному положению участок под застройку - как например Херренгассе, которая еще ближе к Хофбургу - а абсолютно несенсационый узкий переулок Химмельпфорт. После его прибытия в Вену успешный полководец не располагал собственной квартирой и жил в доме тогдашнего испанского посла.
В 1693 и 1694 задокументированы первые закупки земельных участков; несколько более старых домов, а также ранне-барочный театральный зал были присоединены к ареалу. В 1697 Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах (ну кто же еще?) по поручению принца Евгения начал строительсто дворца с 7 осями; производителем работ был Андреа Симоне Карове. Заказ на каменотесные работы получил Иоганн Томас Шилк, имющий семейные связи с каменоломнями.
Большой портал с боковыми рельефами (слева: Геркулес в борьбе против великана Антея; справа: Энеас спасает его отца из горящей Трои) сработан из императорского камня, скульптором был Лоренцо Маттьельи. К этой строительной фазе относятся также замечательные лестницы со ступенями из императорского камня, с фигурами атлантов, которые служат вместо колонн как опоры. В центре стоит отдыхающий Геркулес, над которым профильный портрет принца ведет дальше к написанной маслом картине Луиса Доригни "Аполлон на солнечной колеснице" (1710/11). Скульптуры из Цогельсдорфского камня на лестнице создал Джованни Гиулиани. Поставки из императорской каменоломни происходили от мастера Райхардта Фукса. Самое важное помещение,законченное еще под руководством Фишера фон Эрлах - т.н. Красный салон, бывшая комната аудиенций. Здесь вызванные в 1697 в Вену художники Маркантоньо Киарини (квадратура) и Андреа Ланцани (фигуры) написали "принятие Геркулеса на Олимп"
В 1702 Иоганн Лукас фон Гильдебрандт принял руководство строительством. К этой фазе относятся несколько парадных залов, прежде всего, золотой кабинет с написанной маслом картиной Solimenas. После приобретения примыкающего с востока дома фасад расширился в 1708 до 12 осей.
Во время последней реставрации рядом с вестибюлем был открыт Sala terrena с причудливыми живописями Йонаса Дрентветта. Он в течение десятилетий использоваля для склада актов и бумаг. Помещение не упоминается в источниках. Так как, тем не менее, медальон, изображающий "Histoire" в середине стены между окнами, среди битв принца Евгения упоминается "Höchstätt" фреску можно датировать 1704 годом.
В 1710 были встроены домашняя капелла и галерея. А также центральное помещение аудиенцзал, т.н. Синий салон с фресками Маркантоньо Киарини и Луиса Доригни. В 1719 17-осный фронт расширился с приобретением на западе примыкающего дома. Лоренцо Маттьельи оформлял рельефы ворот и стенные декоративные фонтаны во дворе.
Принц Евгений умер в 1736. Его племянница Анна Виктория Савойская, 17 апреля 1738 сочетавшаяся браком с принцем Заксен-Гильдбургхаусен, была как наследница одной из самых богатых людей Европы. (Ее супруг Йозеф Фридрих фон Заксен-Гильдбургхаусен служил Габсбургам как полководец и армейский управляющий). Она продала с аукциона владение Евгения; дворец перешел во владение (как большинство других дворцов принца) императорского двора и был после реконструкции использован для размещения различных государственных учреждений, с 1848 k.k. Министерства финансов.
Роскошная лестница 8 апреля 1945 только чудом изехала разрушения. В это воскресенье происходило в 14 ч. в ходе захвата Вены Красной армией нападение советских самолетов на Внутренний город. При этом бомба пробила крышу дворца и взорвалась на чердаке. Плафон французского художника Луиса Доригни был поврежден, но был восстанолен.
Фишер фон Эрлах планировал создать здесь самую великолепную парадную лестницу Вены.
Биография принца Евгения и, прежде всего, короткий промежуток времени, за который он мог соорудить несколько роскошных замков и дворцов, указывает, какие возможности имелись конец 17. или в начале 18-ого столетия для решительных и энергичных, но неимущих молодых аристократов, если у них были хорошие отношения с династией. Уже через 11 лет на службе императора он начинает сстроительство городского дворца. В 1694 тогдашний фельдмаршал, имеющий еще финансовые трудности, покупает у графа Карла Макса фон Турна скромный земельный участок в переулке Химмельпфорт. Участок под застройку был не совсем подходящ для высокого аристократа, так как он лежал в стороне от аристкратического квартала и недалеко от городской тюрьмы. Кроме того, местность вокруг переулка Химмельпфорт была чрезвычайно бюргерским раионом.
Уже в 1697/98 художник и архитектор Маркантоньо Киарини, а также Андреа Ланцани украсили фресками потолки зала. Это было новшеством для Вены, так как до сих пор лестничные клетки и залы украшались здесь фресками, в то время как жилые помещения и и представительские помещения имели оштукатуреные потолки. Супрапорты дверей - работа Петера Пауля Рубенса и были украшены портретами в т.ч. Карла смелого и императора Максимилиана I.
В 1711 году дворец был достроен. В апреле этого года принц уже принимал здесь турецких послов.
4-этажный дворец относится к самым прекрасным барочным дворцам Вены. Первый этаж и бельэтаж скомпанованы в цокольную зону. На обоих верхних этажах фасад делится 18 снабженными пазами пилястрами с ионийскими капителями. У 3 ворот такой же внешний вид. Они обрамлены 2 рельефами из греческой мифологии. 4 рельефа приписываются Лоренцо Маттьельи. Рельефы на западных воротах - неизвестного мастера. Над каждыми воротами находится соответственно один балкон, каменные перила которого окружают 2 большие вазы.
Над средним балконом расположен большой каменный герб принца. На его месте над другими балконами декорации различным оружием.
Поскольку мне никто не сказал, что фотографировать строжайше зпрещео, первый зал я успела заснять. потом охранник просто ходил за мной хвостом.
Многочисленные отделки фасада в форме военных объектов как шлемы и знамена указывают на военную профессию хозяина. Также многочисленные изображения Геркулеса, которые находятся в здании, должны напоминать о его военной силе и его победах, хотя принц был физически явно не Геркулес.
Плоская крыша здания прячется за декоративной баллюстрадой. На ней стояли 18 каменных фигур, которые представляли римских богов и различные аллегории. Они исчезли в 1931 и считаются утерянными.
Собственно представительские помещения начинаются с т.н. спальни и 3 по цветам обоев названных салонов. Следуют золотой кабинет с домашней капеллой, зал картин битв и еще один салон. Эти помещения сохранили их барочный характер вопреки более поздним изменениям. Желтый салон был первоначально почти вдвое больше и служил как картинная галерея. Президент придворной палаты, Карл Фердинанд Граф Кёнигсегг-Ерп, повелел разделить помещение на спальню и салон для его супруги.
Последнее помещение и является сегодня желтым салоном. Фреска на потолке - Луиса Доригни, которая показывает похищение ореитии северо-восточным ветром, еще сохранилась, но не заметна из-за опущенного в 1752 потолка. Обшивка панелями стены с окнами украшена - также как в красном и Синем салоне - причудливыми живописями Йонаса Дрентветта. В Красном салоне принц давал аудиенции. Сегодня его стены обтянуты обоями из красной шелковой ткани. Первоначально они были обиты красным бархатом. Большая фреска потолка показывает вновь подвиги Геркулеса. На этот раз его принятие на Олимп.
Сегодня Синий салон - это самое большое помещение дворца. Здесь стояла когда-то "парадная кровать". Она была продана после 1736.
Пожалуй, самое прекрасное помещение дворца - это узкий золотой кабинет. Принц Евгений использовал это как помещеие для завтрака. Его стены, окна и двери перегружены позолоченной резьбой по дереву. Размешенные друг нпротив друга зеркала симулируют бескрайнюю золотую галерею. Также резной и позолоченный потолок из липовой древесины спасает картину с многочисленными фигурками ангелочков в центре. В ее углах резные медальоны показывают мифологические сцены. Сегодняшнее оборудование помещения - дело рук императрицы Марии Терезии, которая демонтировала первоначальную запланированную Иоганном Лукасом фон Гильдебрандтом облицовку стены и по-новому устанавила в бельведере. Потолок однако оригинален, так как он не была транспортабелен. <...... >
Никакие охранники, далеко не бесшумно топющие за моей спиной, не могли помешать моему восхищению, восторгу, совершенно невероятному ощущению величия и важности. Золото отрахалось в лучах заходящего солнца. Как хорошо, что народу там совсем мало.
Рекомендую. Пиршество для глаза.
Сначала о записке аги. В актах, касающихся походов Евгения, содержится отчет, который принц писал Карлу (Походы принца Евгения Савойского. По полевым актам и другим аутентичным источникам, издано отделом военной истории императорско-королевского военного архива. Вена, 1876^1892, т. XIII, дополнение, с. 14, гл. 7, Вена, 11 апреля 1711 года):
«Наконец-то прибыл делегированный ко мне турецкий ага, 7 числа, после полудня, которому я 9-го давал аудиенцию и прилагаю Вашему королевскому величеству копию переданного мне письма».
А оригинал письма? Читатель, конечно же, ожидает, что найдет его в приложении к письму Евгения. Те, кто знаком с приложением исторических документов к «Imprimatur» и «Secretum», уже наверняка догадывается: письмо аги в актах отсутствует. Определенные операции всегда проводятся одним и тем же образом, идет ли речь только о том, чтобы прикрыть преступления папы, подделать завещание короля или заставить исчезнуть доказательства заговора против императора.
Что было написано в этом письме аги и почему Евгений посылал его Карлу? Вообще-то он должен был проинформировать об этом Иосифа I, конечно, если в нем не содержалось того, что не должен был узнать Иосиф, а Карл, напротив, был в курсе…
Интрига Атто Мелани. Аббат Мелани ловко устроил засаду с поддельным письмом Евгения Савойского. И он подошел к своей цели довольно близко. Действительно, как рассказывает сам аббат, подложное письмо, приписывавшее Евгению план предательства Австрии, было передано испанскому королю Филиппу V, а от него Людовику XIV через его министра Торси. Министр помешал распространению письма, на что Атто и жалуется трубочисту. Только в мае 1711 года (то есть спустя месяц после событий, о которых рассказывает трубочист) Евгений, как раз по прибытии в Турне во Фландрии, узнал о письме, однако ему удалось доказать свою невиновность. Прочесть обо всей этой истории можно в корреспонденции Евгения, которая находится в Государственном архиве в Вене. Также она передается в актах походов Евгения, а именно в письме, в котором граф Бергейк сообщает Евгению о том, что Филипп V поручил ему спросить у Савойского, подлинно ли то предательское письмо (если да, то может ли он вести переговоры с Евгением (Государственный архив, военные акты 262, 22.3.1711; военные акты 263, 3.5.1711)); в возмущенном ответе Евгения (Государственный архив, Большая корреспонденция 93 а, 18.5.1711); в своих письмах королеве-матери и регентше Элеоноре Магдалене Терезе, а также Карлу (Походы принца Евгения XIII, дополнение, с. 32–33, 13.И 17.5.1711), а кроме того, в письме к Синцендорфу (Государственный архив, Большая корреспонденция, 73 а, 18.5.1711). Во всех этих письмах Евгений выражает свое недоумение и прилагает копию письма Бергейка. В ответах регентша, Карл и Синцендорф подтверждают, что он не имеет с этим делом ничего общего (Государственный архив, Большая корреспонденция, 90 б, 3.6.1711; 31.7.1711; Большая корреспонденция, 145. 21.5.1711).
Проведенный Атто анализ отношений между Евгением, Иосифом и Карлом на удивление точно отображает исторические реалии. К примеру, правдой является то, что Евгений, как утверждает Атто, при дворе Карла мог иметь больше влияния, чем при правлении несчастного Иосифа. Евгению действительно удалось убедить Карла в том, чтобы продолжать войну за испанское наследство в одиночку, в то время как союзники уже подписали мир с Францией. Позднее Евгений, который никогда не мог насытиться войной, отправился на фронт сражаться с турками.
Однако в первую очередь зависть Евгения по отношению к Иосифу, о которой рассказывает Атто Мелани, имеет множество доказательств. Историческим фактом является то, что в 1702 году Евгений был исключен из битвы при Ландау, чтобы освободить пространство для Иосифа, как сообщает Отто Клопп (Падение дома Стюартов. Т. И. Вена, 1885, с. 196). Кроме того, верно и то, что Иосиф не позволял Евгению сражаться в Испании против французов, хотя Евгений питал обоснованные надежды на то, что сможет совершить там великие деяния (там же, т. XXIV, с. 2 и далее).
Также и рассуждения Атто Мелани относительно личности Евгения Савойского совпадают с историческими источниками. Впрочем, нельзя удивляться тому, что официальная история уделяет так мало внимания темным сторонам жизни великих полководцев. В потоке книг и сочинений (до сих пор их насчитывалось 1800), которые славили Евгения на протяжении последних трех столетий, нет ни малейшего указания на личную жизнь знаменитого полководца. Тому есть одна очень простая причина: после Евгения не осталось ни одного личного письма. Его корреспонденция касается исключительно войны, дипломатии и политики. Даже в архивах известных современников, которые переписывались с ним, нельзя обнаружить ни следа личных сообщений. Кажется, что личной, интимной стороны жизни Евгения просто не существовало. Нам осталось только железное лицо солдата, дипломата и государственного деятеля. Практически нечеловеческий образ героя, не оставляющий ни капли места для чувств, слабостей или же сомнений.
Женщины? Похоже, этот воинственный монолит никогда не прикасался ни к одной из них. Евгений, который был одним из самых богатых и уважаемых людей своего времени, никогда не был женат. Хотя некоторых женщин связывают с ним, в первую очередь графиню Элеонору Баттьяни, которая считалась его «официальной любовницей» с 1715 года, однако то, что осталось из ее переписки с Евгением, не дает ни малейших намеков на интимную связь. Быть может, женский пол был скорее нужен Евгению, чем приятен: похоже, существуют документальные подтверждения тому, что он, как пишет трубочист в декабре 1720 года, поселил графиню Пальфи, возлюбленную Иосифа, на Химмельпфортгассе (то есть неподалеку от своего собственного дворца) для того, чтобы иметь возможность контролировать ее (см.: Макс Браубах. Принц Евгений Савойский. Вена, 1964, т. 3, с. 21 и далее).
При этом точно известно, что детство и юность Евгения, проходившие во Франции, протекали неупорядоченно, его воспитанием занимались мало, более того, он рос практически без надзора. Английский историк Николас Хендерсон пишет: «Точно известно, что в ранней юности Евгения были темные стороны. Он общался с небольшой группой женоподобных мужчин, к которой принадлежали такие опустившиеся субъекты, как молодой аббат де Шуаси. Он всегда ходил в женской одежде и время от времени надевал экстравагантные серьги и парики для пожилых женщин» (Н. Хендерсон. Принц Евгений Савойский. Лондон, 1964, с. 21). Из писем невестки Людовика XIV, Лизелотты Пфальцской, графини Орлеанской, следует, что гомосексуальные приключения Евгения, о которых говорит аббат Мелани, соответствуют этому времени. Лизелотта лично знала Евгения, когда он еще жил в Париже. Ее тетка, курфюрстша София Ганноверская, рассказывала ей, что у Евгения были прозвища вроде Симона или Мадам Л"Ансьен; что молодой Савойский по отношению к ровесникам «действовал как дама»; что во время его эротических похождений его сопровождал принц Туреннский; что обоих звали «всеобщими шлюхами»; что Евгений никогда не увивался за дамами, поскольку молодые пажи «были ему милее»; что церковная карьера, которую он начал, оказалась для него закрыта из-за его «испорченности» и что, вероятно, он забудет в Германии «искусство», которому выучился в Париже.
Хотя объемный труд о жизни и деяниях великого полководца насчитывает пять томов, Макс Браубах, самый важный из библиографов Евгения, отводит мало места письмам Лизелотты. Другой историк, Гельмут Олер, приводит щекотливые выражения из этих писем, основывая их, впрочем, исключительно на личной неприязни Лизелотты к Евгению: в период написания писем (1708–1710) итальянский полководец противился миру между европейскими державами и Францией, миру, которого Лизелотта – в силу драматической ситуации, в которой находился Людовик XIV, – желала всей душой. На самом деле все было немного иначе: Лизелотта даже спустя годы после окончания войны недвусмысленно выражается относительно гомосексуальности Евгения.
В принципе неудивительно, что в случае Евгения Савойского перевешивает славное описание его деяний. В биографии полководца не должно быть изъянов, и меньше всего – в сексуальной части его жизни. Фигура образцового генерала, сформированная по принципу идеала, пользовалась большой популярностью во времена нацизма, к примеру, в написанной Виктором Библем биографии Евгения «Принц Евгений. Жизнь героя» (Вена/Лейпциг, 1941), которую он посвятил «вооруженным силам Великой Германской империи».
Первое из писем, в которых Лизелотта говорит о гомосексуальности Евгения, напечатано Вильгельмом Людвигом Холландом (отв. ред.) в «Письмах герцогини Елизаветты Шарлотты Орлеанской» (Штутгарт, 1867), находятся в Библиотеке Литературного объединения в Штутгарте, т. CXLIV, с. 316:
«Мадам Луизе, графине Пфальцской – Франкфурт
[…] Принца Евгения я не знала в его безобразии, потому что когда он был здесь, у него был короткий вздернутый нос, а награвюрах ему делают длинный острый нос; нос был настолько поднят, что рот у него всегда был открыт, и было полностью видно два больших передних зуба. Я очень хорошо знаю его, он часто докучал мне еще ребенком; потом решили, что он должен стать духовником, он был одет как аббат. Однако я всегда уверяла его, что он не задержится там, и так и случилось. Когда он покончил с духовной карьерой, молодые люди стали называть его только Симона или Мадам Лансьен; поскольку он часто притворялся и вел себя по отношению к молодым людям как дама. На это Вы, дорогая Луиза, наверняка скажете, что я очень хорошо знаю принца Евгения; я знала всю его семью, господина отца, госпожу матушку, братьев, сестер, дядьев и теток, то есть довольно многих, но длинного острого носа он не мог заработать никак».
Другой отрывок (письмо Лизелотты от 9 июня 1708 года к тетке) цитирует Гельмут Олер (Принц Евгений в приговоре Европы. Мюнхен, 1944, с. 108):
«Принц Евгений слишком умен, чтобы не обожать Э. Л. В то время как Э. Л. хочет знать истинную причину того, почему принца Евгения называют мад. Симона и мад. Лансьен, а также принца де Туренна, это было потому, что эти двое были общими шлюхами всего двора и все делали вид, что этих двоих использовали, и для этого в любое время давали всем и каждому, и вели они себя как дамы; быть может, принц Евгений забудет в Германии это искусство».
Из другого письма от 1710 года (там же, с. 109):
«Он не утруждает себя дамами, парочка прелестных пажей ему милее».
Из письма от 1712 года (там же):
«Если храбрость и разум превращают в героя, то принц Евгений наверняка герой, но если нужны добродетели, то этого ему, пожалуй, не хватает. Так как он был Мадам Симона и Мадам Лансьен, то его считают в некотором роде шлюхой, [он] и тогда хотел только 2000 талеров, в которых ему было отказано из-за его отвратительных похождений; поэтому он отправился к императорскому двору, где ему повезло».
Другая информация, которую дает Атто по поводу гомосексуальности при дворе французского короля, вся подтверждается и все можно проверить у Дитера Годара (Le go^ut de Monsieur – L"homosexualit"e masculine au XVII si`ecle (Вкус к мужчинам – мужская гомосексуальность в XVII веке). Париж, 2002) и у Клода Пастера (Le beau vice, ou les homosexuels `a la cour de France (Прекрасный порок, или Гомосексуальность при французском дворе). Париж, 1999).
Описания дворца Евгения на Химмельпфортгассе, где находилась бывшая резиденция принца, а сегодня – Министерство финансов, во всех частях являются подлинными, включая размещение запланированной библиотеки на втором этаже. В этих комнатах находилась самая обширная библиотека принца, которая затем была включена в Императорскую библиотеку, а позднее – в Венскую национальную библиотеку.
Описания осад Ландау под руководством Иосифа достоверны во всех подробностях, включая историю о монетах, которую французский комендант крепости Мелак приказал отлить из своей посуды (см.: Г. Хейзер. Осады Ландау. 2 тома, 1894–1896).
Процессия, которая заставляет ехать Пеничека в объезд во второй половине четвертого дня, действительно существовала. В уже упоминавшемся томе о смерти Иосифа I (Подробное описание, с. 6) находится список орденов и братств, которые принимали участие в сорокачасовой молитве: 12 апреля вскоре после 16 часов отцы-ораторианцы, Братство непорочного зачатия и Цех ножовщиков действительно устремились к собору Святого Стефана, поскольку между 16 и 17 часами наступила их очередь вступать в молитву.
Имя императорского протомедика фон Гертода подтверждает уже цитированный выше труд «Подробное описание», который в деталях сообщает о смерти Иосифа и длительной траурной церемонии.
Отделка гроба полностью совпадаете описанием в «Apparatus funebris quem JOSEPHI I. Gloriosum. Memoriae…» (Погребальная церемония памяти Иосифа Первого Победоносного. Вена, 1711).
Аббат Мелани с полным правом утверждает, что иезуиты принадлежали к числу врагов Иосифа I. Известие об изгнании иезуита Видемана молодым императором, на которое трубочист натыкается во время чтения трудов об Иосифе, соответствует фактам (см.: Эдуард Винтер. Эпоха раннего Просвещения. Восточный Берлин, 1966, с. 177). Ни один из хвалебных газетных гимнов, которые рассказчик приводит как цитаты, не является выдумкой: читатели, которые разбираются в истории периодических изданий, к примеру, узнали известный альманах «Энглишер Варзагер», тот календарь, в котором трубочист обнаруживает мрачное пророчество на 1711 год.
И восходы солнца необычайного, кроваво-красного цвета – тоже не выдумка: об этом сообщает граф Зигмунд Фридрих Кевенфюллер-Метч, и его свидетельство повторяется в дневнике князя Иоганна Иосифа Кевенфюллер-Метча (Во времена Марии Терезии. Дневник 1742–1776 годы. Вена/Лейпциг, 1907, с. 71):
«Этот «прискорбный смертельный случай» предсказывает не только английский предсказатель в своем календаре, но и само солнце прогнозировало его своими временами наблюдаемыми красными или кровавыми восходами».
Странный феномен, который, быть может, случайно напоминает событие в 1936 году и появляется в начале фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем».
По рассказам трубочиста, «Энглишер Варзагер» в буквальном смысле слова вырывали из рук торговцев, после того как он верно предсказал смерть Иосифа. Судя по сохранившимся на сегодняшний день экземплярам, он вплоть до конца XVIII века был распространен больше любого другого альманаха.
Участие в войнах:
Война за испанское наследство. Кампания против турок. Война за польское наследство.
Участие в сражениях:
При Зенте. При Капри и Киари. При Гохштедте. При Петервардейне. Победа под Белградом
(Eugene of Savoy) Выдающийся австрийский полководец. Участник Австро-турецкой войны (1683—1699), Войны за испанское наследство, Австро-турецкой войны (1716—1718) и Войны за польское наследство
Евгений был сыном принца Евгения Морица Савойского и Кариньянского, главного начальника швейцарских войск, находившихся на службе французского короля.
С детства Евгений обладал слабым здоровьем, и потому его готовили к духовному званию. Однако сам он мечтал о совершенно другом поле деятельности и потому, достигнув совершеннолетия, обратился к Людовику XIV с просьбой дать ему в командование кавалерийский полк. Однако это желание было встречено насмешками, как самого короля, так и его военного министра Луву а. Оскорбленный Евгений покинул Францию, поклявшись вернуться сюда не иначе, как с оружием в руках. Путь его лежал в Австрию .
Здесь он был быстро принят в имперские войска, в составе которых прошел свое боевое крещение на полях австро-турецкой войны . В 1683 г. Евгений Савойский стал участником битвы под Веной, где польский король Ян Собеский разгромил турецкие войска.
За два года командования драгунским полком Евгений Савойский настолько выделился своими военными способностями, что в 1686 г. при осаде Офена он в двадцатитрехлетнем возрасте оказался на ответственной роли начальника обороны циркумвалационной линии против многочисленной армии верховного визиря.
В 1687 г. Евгений Савойский в чине генерал-майора, преследуя турок, разбитых при Герсане, проник с полком до самого их укрепленного лагеря и, спешив драгун, взял штурмом последний турецкий оплот. В начале 1688 г. он был произведен в фельдмаршалы-лейтенанты, взойдя первым на брешь при взятии Белграда.
С началом 2-й Нидерландской войны (1689—1697) Евгений Савойский был назначен командующим имперскими войсками, посланными в Италию на помощь герцогу Савойскому Виктору Амадею II . Здесь его главным противником стал один из лучших французских полководцев маршал Катина , которому Евгений Савойский стал достойным противником.
Но в лице герцога Виктора Амадея, не обладавшего необходимыми способностями для вождя, Евгений нередко встречал помеху своим планам. При Стаффорде в 1690 г. Виктор Амадей, вступив в бой с французами, едва не был разбит и был спасен лишь благодаря храбрости и распорядительности Евгения Савойского. Такая же ситуация повторилась и в сражении при Марсалии в 1693 г.
28 июля 1691 г. Евгений Савойский после упорного боя вынудил французов снять осаду крепости Кони и отступить за реку По. В следующем году Евгений добился разрешения начать вторжение в Дофинэ и Прованс, тем самым поставив французские войска перед угрозой серьезных последствий для самой Франции. Он уже овладел несколькими пограничными крепостями, как внезапно герцог Виктор Амадей опасно заболел, и наступление союзного авангарда было остановлено. В 1693 г. за победы в Италии Евгений Савойский был произведен в фельдмаршалы.
Теперь военная репутация Евгения Савойского стояла так высоко, что сам Людовик XIV начал звать его на свою службу, предлагая звание маршала, наместничество в Шампани и 20 тысяч ливров содержания. Однако Евгений твердо ответил, что обязан австрийскому императору благодарностью, а в деньгах не нуждается.
В 1697 г. он вновь был послан действовать против турок в Венгрию . Это была первая кампания, в которой Евгений действовал самостоятельно и свободно. Главной его победой в этой кампании стал разгром турецких войск у Зента на реке Тейсе.
Незадолго до начала сражения к Евгению прибыл курьер с императорской депешей, в которой ему запрещались решительные действия, и предлагалось ограничиться обороной. Однако принц, догадываясь, какой приказ содержится в пакете, не вскрыл его и 11 сентября 1697 г. нанес сокрушительное поражение войскам противника.
Председатель гофкригсрата генерал Капрара, поддавшись внушениям завистников и личной вражде к Евгению, настаивал на предании его военному суду, однако, учитывая общественное мнение и то, что победителя не судят, император Леопольд I не только не осудил принца, но и поставил его во главе армии в Венгрии, даровав полную независимость от гофкригсрата. Победа при Зенте и дальнейшие действия Евгения Савойского способствовали заключению в 1699 г. выгодного для Австрии Карловицкого мира , в результате которого в состав империи вошли большая часть Венгрии, Хорватия, Трансильвания и почти вся Словакия.
Война за испанское наследство (1701 —1714) стала высшим достижением полководческого искусства Евгения Савойского.
Начало кампании 1701 г. ознаменовалось труднейшим переходом 30-тысячной армии Евгения Савойского через Тридентские (Тирольские) Альпы.
Фактически армия Евгения Савойского первой открыла военные действия, в то время как армии остальных стран лишь готовились к ним. Его войска сосредоточились в Тироле, делая вид, что готовятся отсюда перейти в наступление. В ответ на это французская армия под командованием Катины заняла позицию в ущелье Риволи с целью не допустить продвижения австрийцев. Но Евгений, произведя тайную разведку труднопроходимого перевала в горах, в течение долгого времени не использовавшегося войсками, преодолел его и вышел на равнину, совершив глубокий обход к востоку. Наращивая полученное таким образом преимущество дальнейшими маневрами, которые часто вводили противника в заблуждение относительно его намерений, Евгений Савойский вовлек французов в гибельное для них наступление в районе Чиари (вблизи Брешии). Это привело к полному отступлению французов из Северной Италии, занятой австрийскими войсками.
Кампанию 1702 г. Евгений Савойский начал внезапным нападением на Кремону, где в это время находился маршал Виллеруа , заменивший Катину. Скоро на австрийские войска обрушились превосходящие силы под командованием маршала Вандома . Однако, обладая вдвое меньшими силами, чем их имел французский главнокомандующий, Евгений Савойский все же сумел удержать завоеванные в Италии территории. Одной из главных трудностей, встретившихся ему в Италии, стало отсутствие традиционной магазинной системы снабжения войск. Принц сумел преодолеть эти затруднения, научившись извлекать все необходимое в занятых им итальянских землях.
В 1703 г. Евгений Савойский был назначен президентом гофкригсрата, и к нему перешло высшее руководство военными делами империи. В том же году под руководством Евгения Савойского было подавлено восстание Ференца Ракоци , вспыхнувшее в Венгрии.
В 1704 г. вместе с герцогом Мальборо Евгений Савойский одержал победу над франко-баварскими войсками при Гохштадте (Бленгейме). Эта победа сразу привела к отпадению Баварии от союза с Людовиком XIV. Незадолго до начала сражения принцу удалось незаметно оторваться от войск Виллеруа и соединиться с войсками герцога Мальборо, застав тем самым французские войска под командованием Тальяра врасплох. В сражении при Гохштадте (13 августа 1704 г.) Евгений нанес главный удар по левому флангу французских войск. Хотя его атака была дважды отражена, Евгений смог не только повторить ее, но и поддержать герцога Мальборо, войска которого контратаковали французы.
В 1705 г. Евгений Савойский был послан в Испанию , где он остановил успехи Вандома. Однако вершиной его военного искусства в Войне за испанское наследство по праву считается кампания 1706 г. В этой кампании Евгений Савойский поставил своей целью завоевание всей Италии.
Первоначально Евгений Савойский был вынужден отступить на восток до озера Гарда и далее в горы, в то время как его союзник герцог Савойский был осажден в Турине. Но вместо того чтобы попытаться с боем прорваться вперед, Евгений Савойский обманул противника хитрым маневром. Вместе со своей 24-тысячной армией он совершил трудный и смелый переход через горы по правому берегу реки По, завершив его разгромом под Турином 80-тысячной армии французов. Евгений Савойский не задумываясь, пожертвовал своей базой, однако выиграл сражение за всю Италию, которую не спасли и 33 крепости, занятые французскими гарнизонами.
В 1707 г. войска Евгения Савойского вторглись в Прованс, где принц попытался овладеть Тулоном, однако эта попытка не увенчалась успехом. В том же году Евгений Савойский действовал менее энергично, чем в предыдущих кампаниях. Так, он отверг план герцога Мальборо непосредственно прорваться к Парижу путем обхода крепостей и не ввязываясь в затяжные бои с французскими войсками.
С 1708 г. он действовал в Нидерландах , командуя объединенными силами союзников. Здесь совместно с герцогом Мальборо он разбил французов при Уденарде и овладел Лиллем.
В 1709 г. ими была одержана победа при Мальплаке, которая обошлась союзникам слишком дорогой ценой и не принесла ощутимых результатов. В 1711 г. армия Евгения Савойского по политическим соображениям была отозвана с театра военных действий. В следующую кампанию 1712 г. он командовал австрийскими и голландскими войсками и теперь решился предпринять вторжение во Францию. Однако в результате сложного маневра, предпринятого маршалом Вилларом под Дененом, Евгений Савойский потерпел поражение и отступил. Это поражение завершило распад антифранцузской коалиции.
В 1714 г. принц Евгений Савойский исполнял обязанности императорского уполномоченного при заключении Раштадтского мира. Император Карл VI вынужден был признать за королем Филиппом V Бурбоном право на испанскую корону, однако смог удержать за собой значительную часть «испанского наследства»: Испанские Нидерланды, Северную Италию с Миланом, Неаполитанское королевство, часть Тосканы и Сардинию.
Во время новой Австро-турецкой войны (1716—1718) войска под командованием Евгения Савойского, разгромив турецкие войска при Петервардейне, овладели Темешваром (ныне Тимишоара). Этой победой австрийская армия в значительной мере была обязана гению своего полководца. Тот же гений спас имперские войска в следующем году под Белградом , когда они оказались зажатыми между армией великого визиря и сильным белградским гарнизоном. В ночь на 16 августа под покровом тумана войска Евгения Савойского, выйдя из траншей, атаковали турок и обратили их в бегство. Победа Евгения Савойского под Белградом привела к подписанию Пассаровицкого (Пожаревецкого) мирного договора , по которому к Австрийской империи отошли Банат, Темешвар, часть Валахии и Северная Сербия с Белградом. Австрийским подданным предоставлялось после уплаты крайне низкой пошлины (3%) право свободной торговли по всей территории Османской империи.
До 1724 г. Евгений Савойский был штатгальтером в Австрийских Нидерландах, одновременно исполняя обязанности председателя Тайного совета при императоре. Несмотря на то, что Карл VI относился к принцу не с таким доверием, с каким к нему относились прежние австрийские государи, его влияние сохранялось при решении всех важных государственных вопросов.
Сам принц интересовался не только военными делами. Он выстроил в Вене роскошные дворцы, прежде всего — Бельведер, где были собраны уникальная библиотека и коллекции памятников мирового искусства.
В 1733 г. Евгений Савойский был назначен главнокомандующим союзных войск, действующих против Франции в Войне за польское наследство (1733—1739). Однако силы его были на исходе, и принц не смог проявить своего прежнего военного гения и скоро был отозван. Три года спустя он скончался в Вене и был похоронен в соборе Св. Стефана. Впоследствии перед Бельведером в столице Австрии был сооружен великолепный памятник величайшему полководцу мировой истории.
В Евгении Савойском сочетались смелость и решительность, основанная на глубоком понимании своего противника и данной обстановки, умение сообразовывать свои цели с силами и средствами, за что его особенно ценил Наполеон , хладнокровие в самые критические минуты сражения.
Несмотря на суровую дисциплину, которую Евгений Савойский установил в своих войсках, он сумел привлечь к себе сердца воинов, которые готовы были всюду следовать за своим любимым полководцем.
Хладнокровие и присутствие духа в самые критические минуты были так необыкновенны, что современники удивлялись, как в таком слабом теле мог заключаться такой великий дух. Евгений Савойский обладал редкой способностью говорить с солдатом, снискать его доверие, несмотря на чрезвычайно пестрый состав своей армии и то обстоятельство, что он сам был чужестранцем.
Принц без королевства
Евгений Савойский родился 18 октября 1663 года в семье выдающегося государственного и военного деятеля Франции, представителя Савойского дома, Эжена-Мориса Савойского-Каринтского. Он был влиятельным лицом при дворе и занимал пост губернатора Шампани. Матерью Евгения была Олимпия Манчини — племянница всесильного кардинала Мазарини. Мальчика с детства готовили к духовному званию, ведь в семье было множество влиятельных клириков, но юного Евгения манила военная стезя. Он хотел быть похожим на своего отца — героя двух войн и борца с Фрондой.
Генеалогическое древо Евгения Савойского
Едва Евгению исполнилось десять лет, как умер Эжен-Морис, и в жизни мальчика наступила черная полоса. Попав в немилость при дворе, из Парижа была вынуждена уехать его мать, а маленький принц остался в столице с крошечным пансионом. Евгений попытался было поступить на военную службу, но Людовик XIV, видя слабое телосложение ребенка, отказал в его просьбе и постановил продолжать духовное образование.
Евгений родился в семье принца Савойского и племянницы Мазарини
Принц Савойский был не из тех, кто спокойно смиряется с невзгодами, даже если их причиной был сам король-Солнце. Будущий полководец твердо решил пойти по стопам отца, не останавливаясь ни перед чем. Вскоре ему представился счастливый случай начать военную карьеру.
Великая Турецкая
В 1683 году над австрийской монархией нависла страшная угроза: турецкий султан Мехмед II решил раз и навсегда покончить с «неверными», предав Вену огню, для чего собрал огромную для того времени армию: около 200 тысяч воинов (и еще столько же нестроевых). Германский император Леопольд I спешно искал союзников по всей Европе, призывая всех сочувствующих встать под его знамена. Призыв императора нашел отклик даже среди заклятых врагов Габсбургов — французов. Сотни дворян отправились на войну с турками, поступая на службу в австрийскую армию. Вот и двадцатилетний Евгений решил попытать счастье в борьбе за общехристианское дело, тем более, что в Венгрии уже находился его двоюродный брат Людвиг-Вильгельм. Юноша был тепло принят императором и отправлен в действующую армию.

Мохачская битва 1687 года. На переднем плане Людвиг-Вильгельм брат Евгения Савойского
На полях турецкой войны молодой аристократ быстро стяжал славу — меньше чем через полгода он был произведен в полковники, а 1686 году, после двух лет постоянных боев, где он со своим полком неизменно бывал первым, он получил свой первый генеральский чин. И это в двадцать три года! Его смелые и дерзкие предприятия разнесли славу о молодом даровании по всей Европе. Военный министр Лувлуа — видный сподвижник Людовика XIV (и по совместительству главный недруг Савойских при дворе) якобы сказал, прослышав об успехах Евгения: «Никогда не возвратится он во Францию!». Евгений по преданию пообещал непременно вернуться, но уже с оружием в руках. И очень скоро у него появилась такая возможность.
В Италию!
Дело в том, что в 1688 году, когда война с Турцией была еще в разгаре, Австрии пришлось вступить в еще одну войну. Дело в том, что Людовик XIV решил воспользоваться политической и династической ситуацией и пока австрийцы сражаются на востоке предъявить свои претензии на небольшое немецкое княжество Курпфальц. Нидерландский правитель Вильгельм Оранский, боясь усиления Франции, быстро сколотил коалицию против Людовика, так называемую Аугсбургскую лигу, по которой война и получила свое название.

Австрийские солдаты времен войны Аугсбургской лиги (по книге И. Голыженкова Европейский солдат за 300 лет)
Несмотря на то, что объектом спора стали земли на Рейне, пламя войны быстро разнеслось по всей Европе. Император оставил небольшой корпус в Венгрии для действий против турок, а основные силы бросил против Франции. Евгений Савойский был отправлен Италию, где ему предстояло действовать в согласии с герцогом Савойским, с которым было заключено соглашение.
В 20 лет поступил в армию, в 23 стал генералом, а уже в 30 фельдмаршалом!
Боевые действия на севере Италии начались весной 1690 года, когда французы попытались вывести Савойю из войны. Герцог Савойский, жаждавший военных подвигов, решил вступить в сражение с превосходной французской армией маршала Катина. Как ни упрашивал Евгений отказаться своего дальнего родственника (герцог Виктор-Амадей и принц относились к одной Савойской династии) отказаться от рискованного предприятия, тот был непреклонен. Итог закономерен: союзные войска были разбиты при Стаффардо, а от полной катастрофы в Италии спасли только грамотные действия Евгения, которому даже удалось добиться некоторых успехов к концу года.

Портрет молодого Евгения Савойского (ок. 1700 года)
В течение кампании 1691 года французов удалось изгнать из Савойи и очистить всю Северную Италию, в основном благодаря умелым действиям принца Евгения. Весной 1692 года союзники, обойдя французскую армию, вторглись в Дофине — область в Южной Франции. Евгений планировал занять Дофине и Прованс, которые остались без прикрытия (основные сил французов были заняты на Рейне), но исполнению плана помешала болезнь герцога Виктора-Амадея, который фактически находился при смерти и даже уже успел назначить Евгения регентом при малолетнем сыне герцога. После взятия Амбрена, союзной армии пришлось вернуться в пределы Савойи, а герцог чудесным образом выздоровел и стал активно сближаться с французами, ведя тайные переговоры, саботируя все предприятия австрийцев.
В роли командующего
До заключения мира в 1697 году в Италии не происходило ничего заметного, а савойский герцог и вовсе заключил в 1696 году сепаратный мир с французами. Император вызвал Евгения в Вену (еще в 1693 году принцу был пожалован фельдмаршальский чин, когда ему было только тридцать лет!) и приказал отправиться в Венгрию, где все еще шла война с Турцией.
Разгром Евгением турок при Зенте, стал причиной заключений мира
Интересно, что сам Людовик XIV обратил внимание на дарования Евгения после походов в Италии и вторжения последнего во Францию. Монарх предложил ему перейти на французскую службу, пообещав внушительное жалование в 200 тысяч ливров, «отцовское» губернаторство Шампании и маршальский жезл. Евгений, который некогда так хотел поступить на службу к королю, с негодованием отверг такое предложение — император, некогда тепло принявший принца еще двадцатилетним юношей и осыпавший его чинами, стал Евгению вторым отцом.

Рис. 5 Схема битвы при Зенте — первого сражения, где Евгений был главнокомандующим
Поход в Венгрию в 1697 году был первой кампанией, где Евгений был полновластным командующим, не зависящим от распоряжений высших чинов на театре войны. Здесь он сумел еще ярче проявить свои полководческие дарования как на стратегическом поприще, так и на поле боя. Маневрами и перемещениями он вынудил турецкую армию перейти на восточный берег Дуная, а после поймал ее на переправе через Тису у местечка Зента (совр. Сербия). Сражение произошло 11 сентября 1697 года.
На глазах у султана Мустафы турецкий лагерь на другом берегу был атакован, а после перестрелки и артобстрела турки были обращены в бегство, многие из них утонули в реке, спасаясь от преследования. 100-тысячная армия султана не досчиталась более 30 тысяч человек, 90 орудий, казны и знамен, доставшихся победителю. Потери австрийцев составили всего 300 человек убитыми и полторы тысячи ранеными! Турки были подавлены бесславным разгромом, султан согласился на мирные переговоры.
Евгений успел повоевать в Венгрии, Италии и в самой Франции
Любопытно, что перед самым сражением в штаб Евгения прибыл курьер с депешей из Вены: гофкригсрат (военное ведомство) и император опасались как бы Евгений, по молодости лет, не наделал ошибок и потому прислали письмо с приказанием ни в коем случае не вступать в сражение с турками (армия Евгения едва ли достигала половины султанской). Закостенелый венский кабинет пытался искусственно ограничить инициативу командующего своими директивами. Евгений, догадываясь о содержании депеши, отказался читать ее в тот момент, мотивируя тем, что все приказы к началу боя уже отданы, а он сам уже отправляется в атаку.

Битва при Зенте, картина Жака Парасселя
После триумфальной победы, Евгений вторгся в Боснию, а, когда армия была отправлена на зимние квартиры, уехал в столицу. В Вене вместо поздравлений его ожидала… тюрьма. Полководец был заключен под стражу, а особенно рьяные венские генералы даже требовали суда над ним. К счастью, победил здравый смысл (жители Вены души не чаяли в принце и даже отправили депутацию к императору), Евгений был полностью оправдан и обласкан императором Леопольдом.
Вместе с Мальборо разбил французов при Гохштедте, переломив ход войны
Разгром при Зенте и две удачные кампании Евгения в Венгрии принудили султана искать мира, который был заключен в Карловицах в 1699 году. По условиям мира Австрия получила Венгрию и Трансильванию, на которые Габсбурги претендовали еще со времен . Война, начавшаяся с вторжения турок в Австрию и осады Вены в далеком 1683 году, была выиграна во многом благодаря победе Евгения при Зенте. Казалось, что Евгений может почивать на лаврах, но не тут то было.
Снова война
В 1700 году умер король Карл II, на котором пресеклась династия испанских Габсбургов, а новым королем был объявлен Филипп Анжуйский — внук Людовика XIV. Европейские державы не могли допустить такого усиления Франции (если уж они поднялись против захвата крошечного Пфальца, то что уж говорить об огромной Испанской империи), и началась Война за Испанское Наследство, в которой Евгению Савойскому предстояло сыграть выдающуюся роль.

Карта Европы в 1700 году
Кампанию 1701 года Евгений провел в Италии, где командовал 30-тысячным корпусом, задачей которого был захват Северной Италии. Ему противостояли старые знакомые — маршал Катина и герцог Савойский Виктор-Амадей, выступивший в начале войны на стороне Людовика XIV (всего более 50 тыс. солдат). Принцу Евгению поначалу удалось вытеснить французов из Пармы и Вероны, дойдя до Кремоны и Бергамо. В следующем году, однако, новоприбывшему в Италию маршалу Вандому сопутствовала удача, так что австрийцы очистили значительные территории в Италии, а сам Евгений Савойский был отозван в Германию, где ему предстояло действовать вместе с еще одним великим полководцем того времени — Джоном Черчиллем Мальборо.
Вместе с Мальборо
Тяжелое положение в начале войны вынудило Леопольда отправить Евгения в Германию, где французы в союзе с баварцами уже доставили императору немало хлопот. К границам Баварии также подошел Мальборо, чтобы помочь австрийцам и отвести угрозу от Вены. Итогом такого стратегического развертывания стала — главное сражение первого этапа войны за Испанское наследство, уничтожившее планы Людовика на быструю победу в войне вместе с армией маршала Таллара.
Битва при Гохштедте (Блейнхейме) 13 августа 1704 года
Только благодаря гению двух великих тактиков две союзные армии (каждая оставалась под командованием «своего» полководца) действовали как единое целое, а уверенные действия принца Евгения привели союзников к победе. Баварский курфюрст отказался от борьбы и принужден был заключить мир с союзниками. Французы же были так деморализованы этим поражением, что и не помышляли о наступательных действиях, а война была перенесена от Дуная к берегам Рейна.
На пороге славы
После кампании в Баварии Евгений Савойский снова отправился в Италию, где маршал Вандом раз за разом одерживал верх над австрийцами и савойским герцогом (который уже успел переметнуться на сторону союзников). Вся компания 1705 года прошла в маневрах и мелких стычках: несмотря на тяжелое положение Виктора-Амадея, Евгений не торопился вступать в бой с французами, имеющих двукратное превосходство в силах.

Переход Евгения Савойского через Альпы — один из подвигов полководца во время войны за Испанское наследство. Гравюра по меди
Военные заслуги Евгения Савойского в войне с французами были отмечены императором званием председателя гофкригсрата — высшей военной инстанции империи. Это было последнее благодеяние Леопольда I. В 1705 году император скончался, а трон наследовал его старший сын Иосиф.
В 1701 году Евгений повторил подвиг Ганнибала, перейдя Альпы
В долине Адижде, у берегов Гардского озера, мы оставим принца Евгения — у самых вершин славы. За двадцать с лишним лет военной карьеры он добился невиданных успехов, высоко подняв престиж австрийской монархии и немецкого оружия. Можно было только догадываться, что после триумфальных сражений при Зенте и Гоштедте, его ожидают новые победы и чувствительные поражения. А кампания 1706 года в Италии станет настоящей классикой истории военного искусства. Продолжение следует.
- Вена , Буда , Мохач , Белград , Зента
- Стаффарда , Марсалья
- Карпи , Кьяри , Гохштедт , Турин , Тулон , Ауденарде , Лилль , Мальплак , Денен
- Петроварадин , Белград
Начало карьеры и Великая Турецкая война
После изгнания матери из Франции в связи с делом о ядах 20-летний Евгений отправился на поля Великой Турецкой войны защищать осаждённую турками Вену , где под его началом сражался полк драгун . После этого Евгений Савойский принимал участие в освобождении Венгрии от турецких войск в 1684-1688 годах.
Война за испанское наследство
Назначенный президентом гофкригсрата, Евгений принял ряд мер, спасших Австрию от величайшей опасности, в которую поставили её восстание венгров и успехи французов в Баварии .
Кампания против турок. Поздние годы
В роли главнокомандующего Евгений появился ещё раз в войне за польское наследство ( -1735), но из-за болезни вскоре был отозван.
Черты характера
Отличительные черты принца Евгения как полководца - смелость и решительность, основанная на глубоком понимании противников и данной обстановки, неистощимость в изыскании средств для осуществления намеченных планов, хладнокровие в самые критические минуты и уменье привязать к себе сердца солдат и поддерживать боевой дух.
Евгений Савойский никогда не был женат и не оставил потомства. Современники приписывали ему гомосексуальные наклонности .
Память
 Принцу Евгению установлен памятник в Вене (автор - Фернкорн) и в Будапеште (автор - Рона).
Принцу Евгению установлен памятник в Вене (автор - Фернкорн) и в Будапеште (автор - Рона).
Сохранился ряд дворцов в стиле барокко, построенных по заказу Принца Евгения. Наиболее известным из них является расположенный в Вене дворец Бельведер . Наиболее крупным - расположенный в нескольких километрах от Братиславы (но на территории Австрии) летний дворец Шлоссхоф.
В честь его имени назван род тропических деревьев Eugenia , эфирное масло которого - источник пахучего антисептического вещества эвгенола , широко применяемого в медицине и парфюмерии.
Про храброго принца сложили песню, известную на нескольких языках, бывших в ходу в Австрийской империи, в том числе и на латыни - Prinz Eugenius, der edle Ritter (Принц Евгений, благородный рыцарь). Песня посвящена победе над турками под Белградом 1717 года .
Напишите отзыв о статье "Евгений Савойский"
Примечания
Литература
- Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. - Wien: Verlag des K.K. Generalstabes, 1876-1892. - Т. 1-20.
- Arneth A. R. Prinz Eugen von Savoyen. - Wien, 1864.
- Evola J. // La Stampa. - 1943. - № XXI . (итал.)
- Kausler F. G. F. Das Leben des Prinzen Eugen von Savoyen. - Freib., 1838-39.
- Köster M. Russische Truppen für Prinz Eugen. - Wien: Österr.Bundesverlag, 1986.
- Голицын Н. С. . - СПб. : Тип. Товарищества «Общественная польза», 1875. - Т. 2.
- Ивонин Ю. Е. . // Вестник Удмуртского университета. 2010. Вып. 1. С. 24-32.
- Нелипович С. Г. Союз двуглавых орлов. Русско-австрийский военный альянс второй четверти XVIII в.. - М .: Объединенная редакция МВД России, Квадрига, 2010. - ISBN 987-5-91791-045-1.
См. также
Ссылки
Отрывок, характеризующий Евгений Савойский
Всё в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение.– Осмелюсь просить ваше сиятельство потесниться крошечку, вот для них, – сказал смотритель, входя в комнату и вводя за собой другого, остановленного за недостатком лошадей проезжающего. Проезжающий был приземистый, ширококостый, желтый, морщинистый старик с седыми нависшими бровями над блестящими, неопределенного сероватого цвета, глазами.
Пьер снял ноги со стола, встал и перелег на приготовленную для него кровать, изредка поглядывая на вошедшего, который с угрюмо усталым видом, не глядя на Пьера, тяжело раздевался с помощью слуги. Оставшись в заношенном крытом нанкой тулупчике и в валеных сапогах на худых костлявых ногах, проезжий сел на диван, прислонив к спинке свою очень большую и широкую в висках, коротко обстриженную голову и взглянул на Безухого. Строгое, умное и проницательное выражение этого взгляда поразило Пьера. Ему захотелось заговорить с проезжающим, но когда он собрался обратиться к нему с вопросом о дороге, проезжающий уже закрыл глаза и сложив сморщенные старые руки, на пальце одной из которых был большой чугунный перстень с изображением Адамовой головы, неподвижно сидел, или отдыхая, или о чем то глубокомысленно и спокойно размышляя, как показалось Пьеру. Слуга проезжающего был весь покрытый морщинами, тоже желтый старичек, без усов и бороды, которые видимо не были сбриты, а никогда и не росли у него. Поворотливый старичек слуга разбирал погребец, приготовлял чайный стол, и принес кипящий самовар. Когда всё было готово, проезжающий открыл глаза, придвинулся к столу и налив себе один стакан чаю, налил другой безбородому старичку и подал ему. Пьер начинал чувствовать беспокойство и необходимость, и даже неизбежность вступления в разговор с этим проезжающим.
Слуга принес назад свой пустой, перевернутый стакан с недокусанным кусочком сахара и спросил, не нужно ли чего.
– Ничего. Подай книгу, – сказал проезжающий. Слуга подал книгу, которая показалась Пьеру духовною, и проезжающий углубился в чтение. Пьер смотрел на него. Вдруг проезжающий отложил книгу, заложив закрыл ее и, опять закрыв глаза и облокотившись на спинку, сел в свое прежнее положение. Пьер смотрел на него и не успел отвернуться, как старик открыл глаза и уставил свой твердый и строгий взгляд прямо в лицо Пьеру.
Пьер чувствовал себя смущенным и хотел отклониться от этого взгляда, но блестящие, старческие глаза неотразимо притягивали его к себе.
– Имею удовольствие говорить с графом Безухим, ежели я не ошибаюсь, – сказал проезжающий неторопливо и громко. Пьер молча, вопросительно смотрел через очки на своего собеседника.
– Я слышал про вас, – продолжал проезжающий, – и про постигшее вас, государь мой, несчастье. – Он как бы подчеркнул последнее слово, как будто он сказал: «да, несчастье, как вы ни называйте, я знаю, что то, что случилось с вами в Москве, было несчастье». – Весьма сожалею о том, государь мой.
Пьер покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, нагнулся к старику, неестественно и робко улыбаясь.
– Я не из любопытства упомянул вам об этом, государь мой, но по более важным причинам. – Он помолчал, не выпуская Пьера из своего взгляда, и подвинулся на диване, приглашая этим жестом Пьера сесть подле себя. Пьеру неприятно было вступать в разговор с этим стариком, но он, невольно покоряясь ему, подошел и сел подле него.
– Вы несчастливы, государь мой, – продолжал он. – Вы молоды, я стар. Я бы желал по мере моих сил помочь вам.
– Ах, да, – с неестественной улыбкой сказал Пьер. – Очень вам благодарен… Вы откуда изволите проезжать? – Лицо проезжающего было не ласково, даже холодно и строго, но несмотря на то, и речь и лицо нового знакомца неотразимо привлекательно действовали на Пьера.
– Но если по каким либо причинам вам неприятен разговор со мною, – сказал старик, – то вы так и скажите, государь мой. – И он вдруг улыбнулся неожиданно, отечески нежной улыбкой.
– Ах нет, совсем нет, напротив, я очень рад познакомиться с вами, – сказал Пьер, и, взглянув еще раз на руки нового знакомца, ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем Адамову голову, знак масонства.
– Позвольте мне спросить, – сказал он. – Вы масон?
– Да, я принадлежу к братству свободных каменьщиков, сказал проезжий, все глубже и глубже вглядываясь в глаза Пьеру. – И от себя и от их имени протягиваю вам братскую руку.
– Я боюсь, – сказал Пьер, улыбаясь и колеблясь между доверием, внушаемым ему личностью масона, и привычкой насмешки над верованиями масонов, – я боюсь, что я очень далек от пониманья, как это сказать, я боюсь, что мой образ мыслей насчет всего мироздания так противоположен вашему, что мы не поймем друг друга.
– Мне известен ваш образ мыслей, – сказал масон, – и тот ваш образ мыслей, о котором вы говорите, и который вам кажется произведением вашего мысленного труда, есть образ мыслей большинства людей, есть однообразный плод гордости, лени и невежества. Извините меня, государь мой, ежели бы я не знал его, я бы не заговорил с вами. Ваш образ мыслей есть печальное заблуждение.
– Точно так же, как я могу предполагать, что и вы находитесь в заблуждении, – сказал Пьер, слабо улыбаясь.
– Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину, – сказал масон, всё более и более поражая Пьера своею определенностью и твердостью речи. – Никто один не может достигнуть до истины; только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем Великого Бога, – сказал масон и закрыл глаза.
– Я должен вам сказать, я не верю, не… верю в Бога, – с сожалением и усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость высказать всю правду.
Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся, как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, пяти рублей, могущих сделать его счастие.
– Да, вы не знаете Его, государь мой, – сказал масон. – Вы не можете знать Его. Вы не знаете Его, оттого вы и несчастны.
– Да, да, я несчастен, подтвердил Пьер; – но что ж мне делать?
– Вы не знаете Его, государь мой, и оттого вы очень несчастны. Вы не знаете Его, а Он здесь, Он во мне. Он в моих словах, Он в тебе, и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас! – строгим дрожащим голосом сказал масон.
Он помолчал и вздохнул, видимо стараясь успокоиться.
– Ежели бы Его не было, – сказал он тихо, – мы бы с вами не говорили о Нем, государь мой. О чем, о ком мы говорили? Кого ты отрицал? – вдруг сказал он с восторженной строгостью и властью в голосе. – Кто Его выдумал, ежели Его нет? Почему явилось в тебе предположение, что есть такое непонятное существо? Почему ты и весь мир предположили существование такого непостижимого существа, существа всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах?… – Он остановился и долго молчал.
Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания.
– Он есть, но понять Его трудно, – заговорил опять масон, глядя не на лицо Пьера, а перед собою, своими старческими руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы книги. – Ежели бы это был человек, в существовании которого ты бы сомневался, я бы привел к тебе этого человека, взял бы его за руку и показал тебе. Но как я, ничтожный смертный, покажу всё всемогущество, всю вечность, всю благость Его тому, кто слеп, или тому, кто закрывает глаза, чтобы не видать, не понимать Его, и не увидать, и не понять всю свою мерзость и порочность? – Он помолчал. – Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себе, что ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова, – сказал он с мрачной и презрительной усмешкой, – а ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать Его трудно… Мы веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели; но в непонимании Его мы видим только нашу слабость и Его величие… – Пьер, с замиранием сердца, блестящими глазами глядя в лицо масона, слушал его, не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим, старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона, и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью; – но он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни.
– Он не постигается умом, а постигается жизнью, – сказал масон.
– Я не понимаю, – сказал Пьер, со страхом чувствуя поднимающееся в себе сомнение. Он боялся неясности и слабости доводов своего собеседника, он боялся не верить ему. – Я не понимаю, – сказал он, – каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания, о котором вы говорите.
Масон улыбнулся своей кроткой, отеческой улыбкой.
– Высшая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага, которую мы хотим воспринять в себя, – сказал он. – Могу ли я в нечистый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о чистоте ее? Только внутренним очищением самого себя я могу до известной чистоты довести воспринимаемую влагу.
– Да, да, это так! – радостно сказал Пьер.
– Высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и т. д., на которые распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку – науку всего, науку объясняющую всё мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутреннего человека, и потому прежде, чем знать, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет Божий, называемый совестью.
– Да, да, – подтверждал Пьер.
– Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволен ли ты собой. Чего ты достиг, руководясь одним умом? Что ты такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованы, государь мой. Что вы сделали из всех этих благ, данных вам? Довольны ли вы собой и своей жизнью?