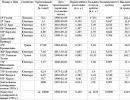Солдатские мемуары: война глазами рядового. Солдатские мемуары: война глазами рядового Артем Драбкин«Окопная правда» Вермахта. Война глазами противника
В. ДЫМАРСКИЙ: Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVi, тех, кто смотрит «сетевизор» и вообще тех, кто находится с нами на связи. На связи со студией программы «Цена Победы». Я – ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас очередная программа. На протяжении всех тех лет, которые уже идет наша программа в эфире, мы все-таки основное внимание уделяли таким, что ли, макроэлементам Второй мировой войны.
Это и политика, и дипломатия, и в военных аспектах это больше был разговор на уровне фронтов, дивизий. Мы не опускались, или редко очень опускались, до быта, что ли, до того, что, кстати говоря, в советской, но вообще в отечественной литературе называлось в свое время «окопной правдой». И вот сегодня одна из тех редких передач, когда у нас в гостях, хотел сказать, не историк, но это не правда, потому что у нас в гостях историк, доктор исторических наук, профессор Игорь Михайлович Кривогуз, но он автор книги «Солдатские мемуары». Автор книги «Солдатские мемуары» и понятно, что эти солдатские мемуары – это воспоминания человека, который прошел практические все годы войны. Да, Игорь Михайлович? С 1942 года?
И. КРИВОГУЗ: С 1942 года, августа 1942 года.
В. ДЫМАРСКИЙ: Почти все годы с августа 1942 года. И вот эти «Солдаткие мемуары», мне кажется, очень искренняя хорошая книга человека, еще раз повторю, человека из окопа фактически. Человека из действующей армии. Человека, побывавшего и у партизан, и в регулярной, в действующей армии, Красной Армии. И, помимо всего прочего, я уже сказал, Игорь Михайлович – доктор исторических наук, профессор, поэтому, может, мы с ним затронем и более общие вопросы, помимо таких чисто солдатских воспоминаний.
Игорь Михайлович, первый вопрос Вам. Вот я упомянул так называемую «окопную» прозу. Собственно говоря, это все, что мы знаем о той войне. Это Гроссман, Астафьев, кого там еще можно вспомнить… Бакланов, наверное, вот такие писатели-фронтовики. Была и другая, более такая традиционная официозная, что ли, литература, представлявшая все в таком достаточно розовом цвете, все, что происходило. Вот Ваше ощущение войны, как участника – это… Знаем ли мы правду о той войне? Вот о войне, опять же повторю это слово, «окопной»?
И. КРИВОГУЗ: Правда складывается тогда, когда мы смотрим на объект с различных точек зрения. И, наверное, очень важно было то, что написали маршалы, генералы. Хотя и их мемуары редактировались в угоду политической конъюнктуры, это всем известно. Другая точка зрения – вот та, лейтенантская проза, начиная с Некрасова, Бакланова и затем целый ряд других. Это тоже была правда. Правда, увиденная из окопа, увиденная непосредственно в бою. И, наконец, надо прямо сказать, что это, наверное, не была еще вся правда, потому что, например, Симонов, он как раз ввел понятие «солдатские мемуары». И он показывал по телевизору беседы с солдатами, с самыми рядовыми участниками боев. И у них была тоже своя правда. И только складывая все это, мы получим очень мозаичную картину, очень может быть не всегда гладкую, но это будет действительная правда.
Когда я писал свои мемуары, то я, прежде всего, за основу взял те впечатления, которые остались у меня, когда я был инструктором штаба партизанского движения юга, командиром диверсионной группы этого же штаба. Затем я попал в действующую армию, получив бог весть каким способом звание старшины. Просто это звание мне приписал на сборном пункте лейтенант, который фильтровал солдат и отправлял их в запасные полки. Приписал… Видимо, я произвел на него впечатление, что на мне после партизанских дел осталось хорошая дубленка, хорошие сапоги и шапка. Он решил, что я, если не офицер, то уж во всяком случае старшина. И так я очень удивился, когда увидел потом себя в списке в качестве старшины, но отказываться было неудобно, хотя мне это было совершенно не нужно, не стремился я стать ни старшиной… И вот я был помкомвзвода в роте саперов. Потом я оказался командиром противотанкового орудия в противотанковом дивизионе, где сделали меня старшиной дивизиона, хотя я тоже не очень рвался к этому. Это такая была, ну что ли, политическая работа нештатная, на самом низком уровне, но среди молодежи, которой было много в этом противотанковом дивизионе. И так я закончил войну на этом посту, участвуя в схватках с танками, участвуя и в операциях со стрелковым оружием, и попал даже в Китай. Закончил я поход этот…
В. ДЫМАРСКИЙ: В Японии?
И. КРИВОГУЗ: ... у города Синьчжоу на берегу Желтого китайского моря. Это тоже интересная страница. И я старался потом проверить свои впечатления по архивам. Работал в Подольске в Центральном архиве министерства обороны, восстанавливал детали, восстанавливал факты, события. И все это позволило мне создать, так сказать, вот те воспоминания, которые, как мне кажется, дают наиболее объемное представление, за исключением стратегических рассуждений. Я не генерал, я о них не писал. Но то, что меня касалось по части даже операции, скажем, в масштабе дивизии, то я там излагал. Скажем, форсирование Днепра, как дивизия справилась с этим. И почему мы форсировали Днепр по всему фронту, по которому вышли к этой реке. Форсировали большой кровью и во что бы то ни стало ценой огромных потерь, но добились того, что миф об этом «восточном вале», который там якобы немцы построили, он был разрушен. И немцы не удержались от такого фронтального натиска. Вот, собственно говоря, какой был подход мой к написанию этих солдатских мемуаров.
Я всегда, конечно, помнил, что Симонов первым назвал это, и старался показать, как жили именно вот те безвестные рядовые солдаты, которые непосредственно участвовали в схватках с танками, в схватках с пехотой и так далее.
В. ДЫМАРСКИЙ: Вы, просто для уточнения, где, в основном, воевали? На юге, да? Кавказ?
И. КРИВОГУЗ: Мне пришлось пройти… Во-первых, это не совсем юг, но, с точки зрения, Москвы, наверное, юг. Это Калмыцкая республика. Вот там я переправлял партизанские отряды через условную границу фронта. Там к югу Сталинграда фронт уже не имел сплошной линии и вот мы через эти прорехи проводили партизанские отряды, а я участвовал в подготовке и проведении партизанских отрядов. Туда же меня предназначали забросить и как командира пятерки диверсионной группы. Но потом фронт так быстро откатывался, что надобность в этом отпала, и я оказался уже в действующей армии.
В. ДЫМАРСКИЙ: Понятно, понятно. Игорь Михайлович, Вы попали на фронт в 1942 году?
И. КРИВОГУЗ: Да.
В. ДЫМАРСКИЙ: Вы сказали, в августе 1942 года.
И. КРИВОГУЗ: В августе. Ну, в сентябре, собственно.
В. ДЫМАРСКИЙ: Время, в общем, еще не самое успешное, скажем так, для нашей армии.
И. КРИВОГУЗ: Это время приказа Сталина «Ни шагу назад».
В. ДЫМАРСКИЙ: Да. Как вот те результаты, скажем нейтрально, первого года войны, как воспринимались солдатами? Вы это обсуждали между собой?
И. КРИВОГУЗ: Ну конечно же. Об этом солдаты говорили, не мысля широко. А мыслили на основе того опыта, который они имели. И они рассказывали, как только я попал – я попал вначале в городе Грозном в коммунистический батальон, и там были старшины, сержанты наши были выздоравливающие после ранений, они пережили первый год войны – и они рассказывали о том, как драпали, как выражались тогда. А я сам видел в Грозном, где жила семья и где я кончал школу, как бежали наши летом 1942 года от Ростова, часто побросав оружие и орудия даже артиллерийские. В нашем артиллерийском противотанковом дивизионе, куда я позже попал, был заместитель командира дивизиона, старший лейтенант. Этот старший лейтенант, как было нам известно, хотя он не любил об этом ни вспоминать, ни разговаривать, был командиром артиллерийской бригады, и у него был в петлице ромб – он был генералом. Тогда еще погон не было, ромб – это первый генеральский чин, генерал-майор. И он потерял пушки при форсировании Дона, потерял своих бойцов. Его отдали под суд, разжаловали в старшие лейтенанты. И только к концу войны он дослужился до капитана, ему присвоили звание капитана, заместителя командира дивизиона.
В. ДЫМАРСКИЙ: Ну понятно.
И. КРИВОГУЗ: По сравнению с командиром бригады в 1942 году. Вот это его судьба, которую я видел, и как он тяжело переживал. Это человек был очень стойкий, но было видно, что ему страшно тяжело то, что с ним произошло. А солдаты в массе своей… Вот я попал в запасной полк, и там были выздоравливающие из госпиталей и они между собой обменивались опытом. Я слушал эти рассказы. Надо прямо сказать, что они никогда не упоминали и не ругали наше руководство. Это, наверное, было на глубине их сознания. То, что не высказывалось. Но они рассказывали картины бегства и беспомощности начальников, и просто глупости и паники, которых тогда в таких случаях было очень много. Иногда люди попадали совершенно не по своей вине. Мой одноклассник после окончания десятилетки был направлен, кажется, в Краснодарское кавалерийское училище. Это было еще весной 1942 года, где-то в мае, в июне он уже был в училище. Командование училища бросило училище и разбежались солдаты. Куда им было идти? Они были необстрелянные курсанты, никаких начальников у них не было. Он отправился домой к маме в Грозный. Было естественно, а что он будет делать? Его поймали как дезертира и – в штрафной батальон. И он в штрафном батальоне погиб под Прохоровкой уже в 1943 году. Вот такие были судьбы тогда. И солдаты об этом говорили.
В запасном полку я пробыл, слава богу, кажется, 10-12 дней, не больше. И все там после госпиталей, после первой недели пребывания в запасном полку рвались на фронт. Потому что в запасном полку кормежка была такой, что долго там выдержать было нельзя. И поэтому крепкие, наиболее стойкие из них были две недели там, а потом так или иначе просились и их отправляли на фронт.
В. ДЫМАРСКИЙ: На фронте лучше кормили?
И. КРИВОГУЗ: Ну это и сравнения нет. Там мы получали пятьсот грамм хлеба. Утром жиденькую-жиденькую кашу или суп гороховый и пол-маленькой селедочки на человека. Правда, давали щепотку сахара и щепотку табака. Я, некурящий, менял табак на сахар. Но в очередь стояли всегда у меня на обмен, потому что многие были заядлыми «курсами». Там же меня, как кончившего спецшколу 005 – это партизанская школа такая была по подготовке инструкторов и диверсантов – сразу же предложили аттестовать на офицера. Я спросил: а как долго будет эта аттестация ждать меня? Дальше больше того. Возник вопрос – я написал, что я 1926 года рождения. Меня вызвали, говорят: «Что ты написал глупость какую?». Я говорю: «Ну я действительно 1926 года рождения». «Так он же еще не призывной!». Я говорю: «Ну что ж будешь делать, вот я попал к вам сюда…». «Ну напиши хоть 1925-й!». Я говорю: «Зачем мне это надо?». «Ну а как же так, мы же не можем!». Я говорю: «Так это…». «Ну напиши 1924-й или 1925-й и давай сдавай документы». Я говорю: «Да нет…». Короче говоря, мне говорили потом: «Ну какая тебе разница? Раз ты уж сюда попал, так какая разница, какой год у тебя будет?». Я даже согласился. А потом спросил, а сколько ждать то производства этого в офицеры? А они говорят: «Ну месяца два». Я подумал и говорю: «Я ведь этого не выдержу». И отказался от этого дела. Так я старшиной, как меня прописали еще в перессыльном пункте, и пошел в саперную роту.
В. ДЫМАРСКИЙ: Ну все-таки, наверное, не только за едой шли.
И. КРИВОГУЗ: Нет, конечно, дело не в голоде. Дело в том, что они знали, что им все равно пойти придется туда. То есть у них альтернативы то не было. Но они считали, что, в общем-то, что тут голодать, так лучше там хорошо поесть. А так или иначе все равно попадешь на фронт. Поэтому мучения они хотели не продолжать слишком долго. Вот отдохнут недельки две и хватит.
В. ДЫМАРСКИЙ: А какое было у вас денежное довольствие? Тоже было какое-то?
И. КРИВОГУЗ: Что-что?
В. ДЫМАРСКИЙ: Денежное довольствие.
И. КРИВОГУЗ: О, это смешно. Ну, в запасном полку ничего не давали, никакого денежного довольствия. Да и какие деньги там нужны были? Там другое. Вот когда отправляли нас в действующую часть – вот я попал в гвардейскую бригаду – то всем выдавали новый комплект белья. Один на себя, другой выдавали комплект белья. Давали полотенца, давали портянку и кусок мыла. И когда мы грузились в эшелон на станции Кавказская, чтобы нас перебросили эшелоном в Краснодар, а там уже в горы на фронт на передовую линию, то все солдаты, имея три часа, они мигом сбегали – тут вокруг нашего эшелона была масса предприимчивых людей из местных жителей – и выменяли мыло, белье, полотенце, портянки запасные на что-то существенное: сало, водку, ну и хлеб, без хлеба не обходилось. Это считалась очень нормальная законная операция и была такая уж традиция сложившаяся, не нам ее менять. А когда я уже попал, то там платили так: первый год, второй год, третий год повышали. Я получал, как старшина первого года службы, что-то 60 рублей. А вот потом, первый и второй год у меня пошел, в 1944 году я уже был на третьем году службы, я получал что-то 150, почти 200 рублей. Значился командиром орудия противотанкового и вот имел эти деньги. Это было значительно меньше офицерского оклада. Лейтенант получал примерно 1100-1200 рублей. А потом в 1944 году летом повысили оклады рядовым и солдатам, и я стал получать 450 рублей, как командир орудия. И это уже была существенная, заметная вещь.
В. ДЫМАРСКИЙ: Игорь Михайлович, а зачем на войне деньги?
И. КРИВОГУЗ: Деньги на войне ни к чему, потому что все они отчислялись на наши книжки. И ты получал только сколько тебе надо. А надо было тебе нисколько, потому что, в общем-то, довольствие нам давали, хотя и с перебоями, но достаточное. В действующей армии. А на нашей территории обычно договаривались с жителями в обмен на всякого рода услуги, даже на передовой линии, если населенный пункт был и мы там хотя бы имели ночлег, то всегда находили возможность выменять на что-то там то курицу… А и в России бесхозную курицу ликвидировать без разрешения хозяев. Так это было после форсирования Днепра, когда в деревне Куцеволовка, конечно, никаких жителей не было, немцы их угнали, а глупые курицы остались, они просто не представляли, что их ожидает. И когда наша дивизия туда форсированно ворвалась, то, конечно, они стали первой жертвой, тем более, что через Днепр продовольствие поступало с перебоями на первых порах, а потом уже все отладилось потихоньку. За границей, там проблем не было, потому что наши власти выпускали леи для Румынии. Наши печатали эти леи, которые имели курс какой-то баснословный. Чуть ли не одна наша лея – сто румынских лей или что-то вроде этого, фантастический курс. То есть за лею можно было выпить и закусить. За эти леи покупали солдаты лошадей, когда наши падали лошади – а у нас был и обозик, где везли разные ненужные вещи вроде противогазов, например, – и мы двигались таким образом, расплачиваясь этими леями. Жители, конечно, особенно лошадей, крестьяне не хотели продавать. Но когда они знали, что путь наш неопределенно долог и неизвестно куда мы едем, то соглашались хотя бы леями получить за лошадь. Вот там с питанием перебоев не было, даже если наше стандартное питание до нас не доходило. Деньги шли на книжку. И я при демобилизации получил по книжке по тем временам баснословную сумму, что-то 6000 рублей. Это значит за несколько лет у меня скопилось это. Это была хорошая…
В. ДЫМАРСКИЙ: Значит все-таки учет был какой-то.
И. КРИВОГУЗ: Да. Нет-нет, это был учет и имело значение в жизни солдат. Может быть, и не последнее. Но многие солдаты, когда повысили эту оплату с лета 1944 года, они стали посылать родителям, женам по 100-200 рублей каждый месяц. Это имело значение для тех, кто работал в тылу.
В. ДЫМАРСКИЙ: И работала почта, да?
И. КРИВОГУЗ: Да, это имело значение.
В. ДЫМАРСКИЙ: Ну вот мы сейчас провели первую часть беседы. Я напомню, что у нас в гостях Игорь Михайлович Кривогуз, доктор исторических наук, профессор, автор книги «Солдатские мемуары». Вот здесь у меня есть даже книжка. Это сборник, в который вошли в том числе и воспоминания Игоря Михайловича. А через несколько минут мы продолжим нашу беседу.
В. ДЫМАРСКИЙ: Еще раз приветствую нашу аудиторию телевизионную и радийную. Программа «Цена Победы» и я, ее ведущий Виталий Дымарский. Игорь Михайлович Кривогуз, доктор исторических наук, профессор, солдат войны и автор «Солдатских мемуаров» у нас сегодня в студии программы.
Игорь Михайлович, ну вот мы в первой части говорили о таких бытовых, что ли, вещах, да? Я еще все-таки продолжу на эту же тему. До сих пор идут споры о том, какую роль сыграл тот же лендлиз. Но вот Вы, как солдат, Вы чувствовали, что там какое-то обмундирование или еда, все это поступало от американцев, или для вас это вообще не имело значения, вы об этом не задумывались?
И. КРИВОГУЗ: Мы чувствовали это. Это имело большое значение. Но я приведу такие факты. Вся бригада, это была бригада стрелковая, но она входила в те знаменитые гвардейские корпуса, которые в начале 1942 года сражались под Москвой, прорыв был и они еле потом вырвались из окружения, когда уже иссяк наступательный прорыв наших войск. Они прибыли на Кавказ и были обмундированы то ли в английскую, то ли в американскую форму, потому что нашей не было. Ну погон у нас еще не было тогда, это был 1942 год, так что они ходили без всяких знаков различия. Ну офицеры носили на петлицах своих кубари и шпалы, а у остальных никаких знаков различия не было. Ну у сержантов треугольники, это само собой. А у других не было. А форма эта основательно к лету 1943 года износилась, износилась основательно. И потом стали выдавать потихоньку наше обмундирование. Но мы получали банки консервированного мяса – «Прэм», и какие-то еще другие названия, сейчас уже не помнится. Это давался нам паек. И поэтому мы так и знали, что это мы едим заморские закуски. Заморские закуски, да. А потом, когда переформировали, две бригады слили в дивизию, это произошло у нас в августе, как раз 8 августа 1943 года под Воронежем в лесах, то нам выдали технику, автомашины американские – «Студебеккеры», «Виллисы» и так далее. И эта техника была изношена и угроблена по грязи Украины потом в наступлении. Без нее мы никуда не могли делать. Заменяли мы ее, в основном, немецкими трофейными тягачами – артиллерию таскать. Бронетранспортеры немецкие, которые попадали к нам в руки – броню демонтировали, а гусеничные тягачи были превосходными тягачами. От американских машин вот в нашем дивизионе и дивизии остались только десятки, а было их что-то около сотни поначалу. Так что это была чувствительная для нас поддержка в 1943-м и 1944 году, техническая поддержка. И преуменьшать это никак нельзя. Я как раз учился впервые водить машину «Студебеккер». Так сказать, тогда осилил это все, потому что необходимо было на замену шофера иногда садиться за руль. Так обстоит дело. Впечатление было, конечно, самое хорошее. Но для наших дорог и нашей грязи даже «Студебеккеры» были слабоваты. В конце концов, украинская распутица, весна 1944 года – это была гибель для них. Летели у них там все шестеренки, изнашивались моторы. Тем более, что, прям сказать, шофера у нас не были высокой квалификации. Хотя иногда умельцы брались и ремонтировали машины, на некоторое время продолжали их существование.
В. ДЫМАРСКИЙ: Игорь Михайлович, еще такой вопрос. А вот солдаты, старшины, сержанты, может быть, вы вообще между собой вели какие-то разговоры на более общие темы или побаивались? Я имею в виду о большой политике, о союзниках, о противниках и так далее, и тому подобное.
И. КРИВОГУЗ: Ну, от союзников, конечно, все ожидали большего. Это естественно, что нам было достаточно тяжело и мы ожидали, что союзники сделают больше. Непонятно было, что они так долго топтались в Италии, непонятно было, что они там боятся высаживаться – мы вон Днепр переплыли, а там какой-то Ла-Манш не могут переплыть. Так что в этом отношении они, конечно, не понимали отчего и почему, и казалось, что союзники могли и должны были сделать больше. Но вместе с тем, если говорить о внутренних проблемах, то уже до лета 1944-го, вообще-то говоря – а наш фронт как раз вышел к границе весной 1944-го под командованием Конева еще, а потом Малиновский принял командование Вторым Украинским фронтом – вышли к границе, и уже у солдат возникал такой вопрос: а что нам дальше границы идти-то? А может нам тут встать и держать, и пусть там дальше кто хочет с немцами воюет. Но, в общем-то, это было не повальное настроение, но некоторые задавали такие вопросы. Приходилось разъяснять, что победить немцев нельзя и расчитывать на то, что они нас оставят в покое тоже невозможно, и что надо идти дальше. Так сказать, интернациональных чувств, что надо брать и высвободить, это не было. Чего не было, того не было. Это, так сказать, все внушали потом. А сами солдаты не очень чувствовали братство. Тем более, что за границей они увидели, когда мы вступили в Румынию, они говорят: «Смотри-ка, страна эта ведет войну столько лет, сколько и мы, а живут как у нас и до войны не жили». Вот такие были разговоры.
В. ДЫМАРСКИЙ: Я как раз хотел Вам задать этот вопрос. Потому что очень много говорят, когда наши люди перешли границу и увидели, как живут в Европе, то произошел некий поворот в мозгах.
И. КРИВОГУЗ: Да, это было огромное впечатление. Тут дело ведь вот в чем. Я помню, лето 1944 года наш фронт провел в обороне, мы перешли в наступление только в августе – сражение под Яссами завязалось. А разговоры были такие: ну вот война кончится… До этого о конце войны не думали – таскать нам, не перетаскать еще. А вот тут вышли на границу, последнее наступление, война кончится. Сижу я в батарее, отдыхают солдаты. Один спрашивает другого: «Как ты думаешь, что, и после войны колхозы будут?». Тот говорит: «Да не знаю, спроси у старшины». У меня. Он говорит: «А как, старшина, вот скажешь ты, будут колхозы после войны?». Я говорю… Установки у меня были тверды усвоены в школе. Я говорю: «А почему им не быть? Это такой шаг вперед». Я довольно распропагандированный был человек, мальчишка. Тогда этот говорит, другой собеседник: «Да что ты его спрашиваешь, он ведь в колхозе не жил, он ведь этого не знает!». Действительно было так, я жил в городе. И вот тогда я понял, что тут какие-то есть разговоры, и, наверное, без меня они ведутся, и, наверное, более откровенные даже. Судьбы будущего колхозов – а колхозников было много, бывших колхозников у нас, – они их волновали, и отнюдь не в пользу колхозов.
А когда мы проходили по Румынии, Венгрии… Ну в Венгрии были местечки у Тисы буквально нищие, но в Румынии, в особенности в ее западной части немецкие поселения – там эти земледельцы жили, прямо скажем, богато. С точки зрения наших колхозников, так это невероятно. В политотделе одно донесение было так: «Солдаты говорят, что у них один хозяин имеет больше, чем наш колхоз». Это поражало – комфорт, дома другие, и особенно в северной части Венгрии и в Чехословакии. Конечно, другой быт, другая совершенно культура. Я, например, увидел впервые в доме ванну там, а я был горожанином даже, а деревенские так с удивлением смотрели. Они только слышали, что есть какие-то ванные, а тут, оказывается, в квартирах, в домах, тем более, в коттеджах, которые мы видели много. Были немало удивлены и поражены этим, и спрашивали, когда ж это у нас все может быть. Но представить этого никто не мог. Потому что было совершенно ясно, что для этого нужна совершенно другая жизнь, другая атмосфера, другая материальная обеспеченность.
В. ДЫМАРСКИЙ: Игорь Михайлович, я Вам сейчас хочу задать вопрос уже не как солдату, а как доктору исторических наук сегодняшнему. Как Вам кажется, как ученому, как историку, чем объяснить… Со времени войны уже прошло 66 лет, да? Правильно я посчитал? Правильно я посчитал. Почему до сих пор идут споры, почему вообще наше общество, я даже больше того скажу, оно расколото во многом на отношении к войне, на истории войны?
И. КРИВОГУЗ: Прежде всего, война оставила такой рубец, который никак не…
В. ДЫМАРСКИЙ: Заживет.
И. КРИВОГУЗ: ... перестанет болеть и в наши дни. Конечно, для молодежи, школьников, для моих правнуков это – древняя история, это Александр Македонский там или кто-то еще воевал когда-то, вот такого рода иногда можно услышать от них вопросы. Но дело, по-моему, обстоит еще и в том, что просто не похоронены даже все солдаты той войны. Сколько их останков лежит.
В. ДЫМАРСКИЙ: Но, тем не менее, люди очень хотят знать правду о войне. Считается, что…
И. КРИВОГУЗ: Да, очень хотят правду знать, потому что корни у всех, у нынешних поколений лежат там где-то, где-то у кого-то кто-то погиб или кто-то воевал, или какое-то несчастье было с семьей. Но дело не только в этом. Дело в том, что сейчас, пожалуй, самая глубокая основная болезнь нашего общества – это разлад и непонимание, недостаточное, слабое понимание между массой населения и властью. Вот этот разрыв, он, надо сказать, очень характерен для России вообще, наверное, со времен Рюрика. Это верхушка, прибывшие из заморья варяги, и население, и Олег, видимо, приказал племени полян именоваться руссами. В летописях так и записано: «Поляне, ныне рекомые руссами». Ну вот, наверное, было постановление Олега о том, что переименовать это племя в руссов. Но не важно. Важно то, что этот разрыв для России характерен и для последующих времен. Возьмите даже времена Грозного – превращение России в многонациональное государство. Вообще Россия как государство никогда не была национальным государством. Возьмите – Петр, да и последующая история… И советская власть, в общем-то, не ликвидировала этого разлада, потому что руководство советское – я назову прямо – это коммунистические олигархи, - она, хотя и навязала идеологию массам, но массы-то имели другие интересы и стремления. Жизненные стремления не в мировой революции. А вот тут как раз в Отечественную войну – это период, когда в наибольшей степени устремления и интересы народа совпадали с интересами руководства страны. Это исключительный период в истории России. И сейчас этого нет. И поэтому история войны, то соотношение между властью и населением, которое в годы войны было максимальным – я не скажу, что полное совпадение было, полного не было все-таки, потому что Сталин использовал войну и для того, чтобы расширять социализм и потом создать основы мировой системы социализма, это и было началом «холодной войны» уже в годы войны Отечественной… Но не в этом дело. Дело в том, что это наиболее привлекательная черта того времени. При всех ужасах, бедствиях все-таки было единство руководства и населения. А этого нам не хватает, и поэтому мы вспоминаем то время и спорим.
В. ДЫМАРСКИЙ: Но не только время вспоминаем. Может, этим и объясняется сохраняющийся непонятно почему, ну если не любовь… любовь, даже можно сказать, преклонение перед Сталиным.
И. КРИВОГУЗ: Да, у многих. Не могу сказать, что это общее явление, но для многих…
В. ДЫМАРСКИЙ: Но достаточно распространенное.
И. КРИВОГУЗ: Почему? Потому что это был период трудный, кровавый, но славный. И уже тогда в годы войны я это замечал. Мальчишкой я до войны еще прочитал в девятом классе Плеханова о коммунистистическом взгляде на истории. Это на меня колоссальное впечатление произвело. А там роль личности совсем была не та, которую имел Сталин. Уже тогда. И я в годы войны, когда солдаты многие, и я сам помнил, что происходило в первый год войны, все это было отброшино. А мы говорили – «десять сталинских ударов». И я знал, как вырабатываются такие решения, принимаются решения об ударах и планах. Что тут один человек ничего не значит. Сталин просто одобрял их, утверждал, председательствовал при их разработке. Но их назвали сталинскими ударами. И это въедалось. А после войны – разгул, пропаганда личности Сталина. Достаточно вспомнить, какая пропагандистская машина у нас была создана сразу после войны с 1947 года - огромная. Включая общесоюзное общество «Знание» и массу других. Миллионы лекций читались, десятки миллионов слушателей этих лекций. Им разве это могло остаться без следа? Нет, это не могло остаться без следа. И надо прямо сказать, что сейчас, если говорить о тех преобразованиях, которые у нас идут, а многие преобразования можно обсуждать так или иначе - разные точки зрения – но мне вспоминаются слова Горького: «Море ловит стрелы молний и в своей пучине красит». Так вот эти частые реформы, они гаснут, сталкиваясь, во-первых, с кругом бюрократии. Во-вторых, с населением, которое не понимает, а чего же из этого получится и не будет ли хуже. Поэтому вот такие проблемы возникают, когда мы вспоминаем войну. А в войну было почти полное совпадение. Но все-таки полного не было. Но максимальное в истории России, тысячелетней истории, максимальное приближение интересов народа и руководства. Потому что нужно было отстоять страну, свою жизнь. Потому что у Гитлера была идиотская программа. Если бы он по-другому действовал, может быть, и не добился бы провала, а добился бы какого-то успеха. Но совершенно ясно, что тут особый период в истории России, он привлекателен. И герои его, которые сделаны героями, сохраняют свою значимость для многих людей.
В. ДЫМАРСКИЙ: Игорь Михайлович, еще такой вопрос. А у поколения фронтовиков, у поколения тех, кто прошел через войну, не возникла некая обида на Сталина, на руководство после войны, что как бы эта победа стала приглушаться, значение победы?
И. КРИВОГУЗ: Да. Ведь это известно, что не Сталин, а после него ввели празднование Дня Победы, и Брежнев довел это до такой замечательной вещи, как всем участникам выделил ордена Отечественной войны, что, я прямо скажу, не приветствую. Хотя получил тоже этот орден, отказываться не стал. Но это девальвировало действительные боевые награды, вот в чем дело. И я знаю одного, он умер уже, правда, участника войны, он имел орден Отечественной войны и гордился этим, а тут ему второй прицепляют, так он говорит: «Зачем же мне этот, я же все получил, что надо? А это только девальвирует мой орден, какое он имеет значение». Поэтому надо прямо сказать, что на Сталина обижаться тогда не успели. Не успели просто потому, что нахлынула война пропаганды и даже тень обиды на Сталина, она, прямо скажем, не встретила бы ни сочувствия, ни понимания, а хуже того, прямо скажем, ведь никто не решался высказывать даже правду о войне, о том, что он видел. И вот я в своих мемуарах показал, как люди жили. Иногда и безобразно было, и командование допускало бог знает какие просчеты и ошибки. Надо сказать, что я в архиве когда работал, я спросил: «А дайте мне, пожалуйста, фонд, где ЧП все отдела «СМЕРШ». Мне хотелось показать, как «СМЕРШ» - я со «СМЕРШем» на войне не встречался – как он работал в нашей дивизии, в частности. Мне сказали: «Нет, это секретно, нельзя». Я взял фонды политотдела дивизии – там все эти случаи разобраны подробнейшим образом. Все случаи безобразия, преступная деятельность и так далее. Так что не надо искать дело «СМЕРШа», политотделы обязаны были собирать информацию, и в политдонесениях это обобщалось. Вот так я нашел немало таких случаев. Они не определяли, конечно, лицо армии, но они характеризовали массу, настроения, и какие были сбои, какие были провалы. Человек остается человеком, он не исправляется от того, что совершает героические подвиги. Иногда эти герои на следующий день совершали преступления. Такие были случаи, и много другого неприятного. Я старался это писать так, в какой мере это имело место, и не выпячиваю это на первый план, потому что это и не могло быть на первом плане. Потому что на первом плане всегда была борьба, война, бой с врагом. Но эти случаи имели место и для того, чтобы характеризовать жизнь солдата, писать солдатские мемуары нельзя их обходить.
В. ДЫМАРСКИЙ: А у Вас был непосредственный контакт с немцем?
И. КРИВОГУЗ: У меня? Да. Я брал пленных. В общем-то, я не хвастаюсь этим, но я когда думаю, какой же вклад в войну, я меряю вклад в войну не наградами, а сколько я уничтожил. Мне удалось сбить один немецкий самолет, я участвовал в подбитии одного немецкого танка и уничтожил, хотя стреляли многие, лично я видел и уничтожил пять немецких солдат в бою. И еще, может, десяток-полтора, когда стреляло много людей, а кто побил…
В. ДЫМАРСКИЙ: Непонятно кто.
И. КРИВОГУЗ: Иногда даже так, если стреляли разные подразделения, то раппорты писались с обеих сторон. Каждый себе приписывал.
В. ДЫМАРСКИЙ: Спасибо, Игорь Михайлович, за эту беседу. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что мы беседовали сегодня с Игорем Михайловичем Кривогузом, доктором исторических наук, профессором, автором книги «Солдатские мемуары». Она выходила как отдельным тиражом, так и в этом сборнике под названием «Желанное слово «Победа». И здесь, в том числе, в этом сборнике солдатских воспоминаний, солдатских мемуаров есть и вклад нашего сегодняшнего гостя. Я Вас благодарю за эту беседу, Игорь Михайлович.
И. КРИВОГУЗ: Спасибо.
В. ДЫМАРСКИЙ: Вас, уважаемая аудитория, за внимание. Была программа «Цена Победы», до встречи через неделю.
В оформлении обложки использована фотоинформация фотокорреспондента Марка Марков-Гринберга
От автора
Это сборник воспоминаний солдат и офицеров, участников Великой Отечественной войны. Я постарался отразить в нем судьбы людей, которых объединяет то, что все они прошли через передний край, были на острие войны и победили. Хотя шансов дожить до Победы у большинства было очень немного.
Наряду с воспоминаниями о разведчиках, пехотинцах, пулеметчиках мне удалось собрать материалы о людях, военная судьба которых не так часто отражается в нашей литературе: о военных шоферах, зенитчиках Волжской флотилии, сражавшихся во время Сталинградской битвы, а также о судьбе лейтенанта-артиллериста, попавшего в штрафную роту.
Бойцов той войны остается с каждым годом все меньше. Они стали мне близки, и я хочу донести до читателя их нелегкие судьбы и подвиг, который навсегда останется в истории России.
Я служил в разведке
Самую почетную награду я получил не за добытых «языков», хотя их насчитывалось более двух десятков, а за немецкий танк, который захватил вместе с экипажем. И такое в разведке бывало.
Мельников И.Ф.
Об Иване Федоровиче Мельникове я впервые узнал из короткой статьи в толстой книге о кавалерах ордена Славы. Потом получилось так, что встретил его в городской библиотеке, где проводилась встреча с ветеранами. Разговорились, встретились еще, и родился этот документальный рассказ о военном пути старшины – разведчика Ивана Федоровича Мельникова. С его разрешения я изложил события от первого лица, так, как мне рассказывал Иван Федорович.
Родился я 19 сентября 1925 года в городе Сызрань Куйбышевской области. Отец, инвалид Гражданской войны, умер вскоре после моего рождения, мать – рабочая. Через какое-то время мама вышла замуж, и отчим заменил мне отца. Он работал в ОСОАВИАХИМе, был добрым, хорошим человеком, позаботился о том, чтобы я получил образование. В начале лета 1942 года я закончил два курса железнодорожного техникума, немного поработал.
Я мечтал стать летчиком и приписал себе в документы лишний год. Вместе с двумя одноклассниками мы сбежали из дома и, забравшись тайком в железнодорожный состав, рванули из Сызрани в Сталинград поступать в Качинское летное училище. Когда приехали в Сталинград, оказалось, что училище эвакуировано. Помню, как голодные бродили по городу, размышляли, что делать дальше. То, что Сталинград прифронтовой город, не понимали. Не обратили внимания и на вой сирен, означающий воздушную тревогу.
Начался воздушный налет. Посыпались бомбы. Мощные взрывы поднимали столбы земли на десятки метров вверх, рушились дома. Спрятаться, залечь в какой-нибудь канаве мы не догадались, а побежали к Волге. В головенках мелькали мысли переправиться на левый берег. То, что ширина Волги километра два с лишним, мы не задумывались. Что стало с моими одноклассниками – не знаю. Близкий взрыв оглушил меня, я метался по берегу, пока не сбило с ног очередным взрывом.
Очнулся на берегу без одежды, все тело болит, в ушах звон. Контузило. Меня подобрали бойцы какой-то воинской части, отнесли в санроту. Когда пришел в себя, накормили, одели, стали расспрашивать. Я твердил, что хочу учиться на летчика. Исправлений в документах не заметили, судя по ним, мне через месяц должно было исполниться восемнадцать лет. То есть формально я был почти совершеннолетним. Сталинград уже вовсю бомбили, военной подготовки я не имел, и мне выдали предписание на учебу в Моршанск Тамбовской области. Мол, парень грамотный, будешь учиться там на летчика.
В Моршанске летного училища не было. Ни о каких летчиках разговор не шел. Вместе с группой ребят я попал в пулеметно-минометное училище. Обстановка на фронте была, как никогда, тяжелой, шло мощное немецкое наступление на юге. Начались бои на подступах к Сталинграду. Двадцать третьего августа 1942 года фашисты прорвались к Волге, а на город обрушились волна за волной сотни вражеских самолетов. Центр города за день был превращен в развалины, погибли тысячи людей. Окажись я в тот день в Сталинграде, вряд бы уцелел.
Моршанск, небольшой, очень зеленый городок, раскинулся на высоком берегу реки Цна. Напоминал многие провинциальные города России. В центре – двух– и трехэтажные здания, а все остальное – частные дома с садами и огородами. Курильщики хорошо знают город по знаменитой моршанской махорке и сигаретам «Прима». Ну, а для меня с конца августа 1942 года и до апреля 1943 года он стал местом учебы.
Пулеметно-минометное училище располагалось в центре Моршанска. Несколько рот занимали большой кирпичный дом. Рота – 120 курсантов, взвод – 40. Учили нас как следует. Постигали боевую подготовку, устройство минометов и пулеметов, расчет стрельбы, тактику боя. Например, из 82-миллиметрового миномета я сделал за семь месяцев около пятидесяти боевых выстрелов. Считаю – нормально. В других училищах, как я позже узнал на фронте, боевых стрельб проводилось куда меньше. Изучали станковые пулеметы «максим» и ручные Дегтярева.
Больше внимания уделялось все же минометам. До войны их недооценивали. Немцы, широко применяя минометы с первых дней, наносили нашим войскам серьезные потери. Для точной стрельбы требовалось постичь целую науку. Мне в расчетах помогало полученное в техникуме знание математики и физики. Оценки по большинству предметов были хорошие и отличные. Но, к сожалению, мешали (как ни странно звучит) мое умение чертить и музыкальный слух, я был запевалой. Из-за этого меня перебрасывали из роты в роту. Я оформлял наглядную агитацию, выпускал стенгазеты. Когда роту готовили к проверке, я и рисовал, и вышагивал в строю, запевая «Каховку», «По долинам и по взгорьям», «Катюшу». За наглядную агитацию и прохождение четким строем с песней рота получала хорошие баллы.
При этом меня никто не освобождал от сдачи зачетов. Учебу в училище вспоминаю добрым словом. Командиры относились к нам внимательно. Питание для военного времени было хорошим. Утром – каша, масло, сладкий чай. На обед – мясные щи, суп, каша или картошка с мясом, компот. По окончании училища мне было присвоено звание «старший сержант». Я мог командовать минометным или пулеметным расчетом, но моя военная судьба сложилась иначе. Я попал в 202-й гвардейский полк 68-й гвардейской дивизии, входящей в состав Степного фронта. Дивизия находилась северо-восточнее Харькова. Буквально в первые дни меня «сманили» в разведку.
Слово «разведчик» всегда было окружено ореолом загадочности, какой-то тайны. В разведку брали только добровольцев. Про вылазки в тыл врага рассказывали легенды. Отважные разведчики проникали в фашистское логово, бесшумно снимали часовых и приводили ценных «языков». В апреле 1943 года мне было семнадцать лет (по документам – восемнадцать). По существу, мальчишка, умевший хорошо петь и не нюхавший войны. Я, не раздумывая, дал согласие и был назначен командиром отделения взвода пешей разведки. Когда меня познакомили со взводом, я сразу заметил, что наград у разведчиков больше, чем в пехоте. Не сказать, что бойцы были увешаны медалями и орденами, но более чем у половины имелись награды.
Хотя я именовался командиром отделения, науку разведки пришлось постигать с азов. Первые недели никем не командовал. Учили меня, как организована немецкая оборона, где расположены посты, пулеметные точки. Помню утомительные дни наблюдения за передним краем противника. С раннего утра и до темноты, вечером и ночью. Глаза до того болели, что я промывал их холодной водой. Затем привык. Давал глазам отдых, учился сосредоточить внимание на нужных участках. Командиром взвода был лейтенант Федосов. Не скажу, что он был очень опытный разведчик. Дело в том, как я понял, рядовых и сержантов на офицерские должности выдвигали редко. Специальных разведучилищ не было. Командирами в разведку назначали отличившихся офицеров из стрелковых подразделений.
Федосов воевал с лета сорок второго, был ранен, считался грамотным командиром. В разведвзвод пришел месяца за два передо мной. Меня «натаскивали» двое опытных разведчиков. Рядовой Саша Голик из моего отделения и сержант, фамилию которого я не запомнил. Голик, небольшого роста, жилистый, много раз ходил в тыл, имел две медали. Кажется, одно время был сержантом, но за пьянку был разжалован. Тем не менее, это был подготовленный, обстрелянный специалист, который мог ответить на любой вопрос. Я испытывал страх перед минами. Саша подробно рассказывал, какие мины могут встретиться, успокаивал меня.
– Нам же саперы помогают. И не думай, что мины невозможно угадать. Неделю простоят – в земле ямка образуется, и трава желтеет.
– А если мины день назад поставили?
– Значит, будет бугорок. Опять же, трава по цвету отличается.
– Попробуй ее различи ночью, – вздыхал я.
Первую вылазку за «языком» запомнил хорошо. Это произошло дней через 8-10 после моего назначения. Группа состояла из пяти человек: помкомвзвода, рядовой Саша Голик, еще один опытный разведчик и двое нас, новичков. Было начало мая, ночи – короткие. Через передний край двинулись часов в одиннадцать вечера. У всех были автоматы ППШ, гранаты, ножи. Нас сопровождали трое саперов. Доползли до середины нейтральной полосы, метров триста, и показали направление: «Двигайте туда, мин нет!» Старший пытался заставить их проползти с нами еще сколько-то, но саперы исчезли. Была ли у них такая инструкция или они просто боялись, не знаю.
Колючая проволока в этом месте отсутствовала, но ракет на освещение переднего края немцы не жалели. Они взлетали то в одном, то в другом месте. Некоторые медленно опускались на парашютах, и тогда несколько минут приходилось лежать неподвижно. В общем, ползли мы медленно, замирая, когда вспыхивала очередная ракета. В одном месте сильно пахло мертвечиной, в другом я ощутил под локтем металл и застыл. Оказалось, крупный осколок снаряда, врезавшийся в землю. Открыл огонь немецкий пулемет. Трассы шли далеко от нас. Значит, пока не заметили. Чем ближе была немецкая траншея, тем сильнее колотилось сердце. Я знал, что на ночь в траншеях остаются только немногочисленные часовые и дежурные пулеметчики. Однако казалось, что лезем прямо на стволы. Еще метр-два, и ударят в упор из автоматов и пулеметов. Вот и траншея. Один разведчик остался наверху, а четверо спрыгнули вниз.
Метрах в пятидесяти справа коротко простучал пулемет. Прижались к стенке траншеи и замерли. Я был уверен, что нас обнаружили. Ударили еще две короткие очереди, и пулемет смолк. Старший группы изменил направление. Мы собирались двигаться влево, но оставлять за спиной пулеметную точку было нельзя. При отходе нас бы расстреляли. Зато существовала опасность, что без шума ничего не сделаем. Часовой плюс пулеметчик или два. Так практически и получилось. Часовой вышел нам навстречу. Его схватили помкомвзвода и Саша Голик. Часового свалили мгновенно, заткнули кляпом рот и принялись связывать. Он отчаянно сопротивлялся и, хотя кричать не мог, ударом сапога переломил жердь на стенке траншеи. Она лопнула с треском, напоминающим пистолетный выстрел.
Кстати, глушить «языков» ударом приклада не практиковалось. Во-первых, почти все немцы, включая офицеров, находились на переднем крае в касках. Во-вторых, удар по голове (если фриц в кепи) трудно рассчитать. Ударишь посильней – можно убить, а рисковать мы не хотели. Поэтому и тренировались, чтобы сразу свалить «языка», обездвижить и связать его. У опытных разведчиков всё занимало считаные минуты. Хотя большинство немецких солдат в передовых частях были крепкие, физически хорошо подготовлены, и справиться с ними было непросто.
Этот немец успел только лягнуться. Связанного, с кляпом во рту, его вытолкнули наверх. Помкомвзвода, второй сержант, крепкий рослый парень, и новичок быстро потащили пленного в сторону наших позиций. Голика и меня оставили прикрывать отход. Мы замерли. Может, все бы и обошлось, но спустя минуты три пулеметчик что-то разглядел. Выпустил ракету, а следом длинную очередь. Мы побежали к пулеметчику. Саша с разбега ударил его ножом, потом еще раз, нашарил документы, и мы выбрались из траншеи. Я рвался бежать напрямик, но Голик толкал меня в сторону.
– Уходим тем же путем. Мины!
По нам открыли огонь, когда поравнялись с остальными. Залегли. Потом, развязав руки немцу, поползли, подталкивая его. Путь был выбран, в общем, удачный. По склону, где густо росла трава. Нас потеряли из виду. Два пулемета били в сторону. Но трассы шли веером, низко над землей, охватывая большой участок нейтралки. Я представил, как раскаленный пучок с легкостью прошивает тело. Вот она, смерть, совсем рядом. Ракеты вспыхивали одна за другой. Нам ничего не оставалось, как ползти. Я знал, что скоро будет небольшой уступ, а дальше низинка. Хоть бы добраться до нее!
Я потерял всякое представление о времени и куда мы ползем. Поминутно оборачиваясь, следил за пулеметными трассами. Саша вдруг выругался: «Ты что делаешь, сука!» Я думал, ругают меня, но это на несколько секунд приподнялся новичок, когда спрыгивал с земляного уступа. Пули его миновали. Однако немцы разглядели группу. В нашу сторону посыпались мины. Разброс осколков у 80-миллиметровых мин довольно большой. Нас пока спасало то, что недавно прошли дожди. Мины взрывались в рыхлой почве, выкидывая осколки вверх.
Помкомвзвода ранили недалеко от наших траншей. Он упал, потом, шатаясь, побежал в рост. Поднялись с четверенек и мы. Ввалились в траншею и минут пять не могли отдышаться. Заместитель взводного был ранен смертельно, разрывная пуля ударила в основание плеча. Перевязать это место трудно, старший сержант истек кровью по дороге в санроту. Разведчику из новичков досталось штук пять мелких осколков. Ранен был и «язык», светловолосый парень с нашивками ефрейтора. Осколок пропахал ему щеку и оторвал кусочек уха, второй – чиркнул по шее. Пленного перевязали и увели в штаб.
Скажу еще такую деталь. Как я позже убедился, разведгруппы уходили в тыл натощак. Везде ли был такой порядок, не знаю. Но в нашем взводе перед выходом на задание никогда не ели. Логика простая. Человек налегке двигается быстрее и ползти удобнее. Играла роль и солдатская примета, что ранение в пустой живот менее опасно, чем в полный. Зато, когда вернулись, наелись от души. Разносолами нас не встречали: каша с мясом, сало, лук и граммов по двести пятьдесят водки. Кроме нас, за столом сидели взводный и старшина.
Большинство ребят проснулись, но за стол больше никто не садился. Лежали, курили, слушали, как прошел поиск. Не привыкший к алкоголю, я быстро окосел и полез на нары.
Проснулся поздно. Ребята, засидевшиеся за столом, еще спали. Их никто не беспокоил. Вскоре я узнал, что утром пленного допрашивал командир полка. Раны ефрейтора сильно кровоточили, он пытался симулировать, изображая тяжелую контузию. Потом все же заговорил. Начертил план обороны позиций своей роты, рассказал что-то еще по мелочи. Командир полка остался недоволен, и дальнейший допрос поручил кому-то из офицеров штаба. Про погибшего помкомвзвода коротко сказал:
– Представить посмертно к ордену.
Про нас речи не заходило. День мы втроем отдыхали. Раненого новичка отвезли в санбат. Голик достал где-то спирта. Я в то время почти не пил, лишь поддержал компанию. Саша выпил изрядно, но не пьянел. Мы сидели вдвоем в тени дерева, и разговор шел откровенный. Я узнал, что две недели назад почти целиком погибла группа из пяти разведчиков. Их засекли посреди нейтралки, вернулся лишь один человек. Рассказал он и том, что помкомвзвода мечтал получить рану. Устал от войны. Вот и накликал. Только не рану, а смерть.
– Много разведчиков гибнет? – спросил я.
– Думаешь, в пехоте слаще? Сейчас вроде тихо, а когда наступление, за одну атаку половина людей в ротах убывает, – он неожиданно перевел разговор на другую тему. – А командир полка зря привередничает. Чего ему надо? Привели ефрейтора, убедились, что напротив нас та же часть стоит. Значит, перемещений пока нет, и внезапного наступления не жди. Помкомвзвода жаль. Хороший был парень и разведчик опытный. Пусть Федос покрутится без помощника. Сам в поиск ходить не любит, а теперь придется.
Помолчав, Саша сказал неожиданную для меня вещь:
– Ты, Ваня, у нас новичок, хоть и старший сержант. Только вчера боевое крещение получил. Тонкостей разведки еще не знаешь. Запомни одну вещь. У нас не принято вперед других лезть, свое «я» выставлять. Федос за разведку отвечает. Ему что ни прикажут, все выполняет. Людей порой зря гробим, лезем, не зная броду, на мины и пулеметы, лишь бы начальству угодить. Ты научись различать, когда приказ, а когда на дурость науськивают. Ордена, звания обещают. В общем, если чувствуешь, что дело дохлое, лучше уклонись, попроси времени на подготовку, а ребят на смерть не тащи.
Я не совсем понял сказанное. Дадут приказ – куда денешься! Но что-то в голове отложилось. Понял, что лезть в герои торопиться не надо. В конце разговора Саша Голик, как бы между прочим, сказал, что, наверное, ему вернут сержантские лычки, а раненый новичок в разведку не вернется.
– Сам ты как? – спросил меня.
– Ничего. Все нормально.
Убегать из разведки я не собирался. На переднем крае тоже гибнут люди. Почти каждый день полк терял людей. То от мин, которые немцы сыпали по несколько раз в сутки, то от выстрелов снайперов.
– В разведке можно жить, – закончил разговор Саша Голик. – Мы хоть спим по-человечески, и на убой не гонят. Ты парень грамотный, крепкий. Держись поближе ко мне.
Мы пожали друг другу руки. Так я приобрел хорошего боевого друга. Мы были разные. Саша Голик закончил пять или шесть классов, вырос в глухой деревушке в Саратовской области. В нем не было рисовки, излишнего самомнения, хотя он имел немалый боевой опыт и две медали. Саша подмечал многое. Рассуждал по-крестьянски практично и хотел не только нормально воевать, но и выжить. Голик оказался прав в своих предположениях. Новичок, которого мы навестили в санбате, явно притворялся, что ранения тяжелые, жаловался на слабость и боли в голове. В разведку он возвращаться не собирался, а позже, прикрываясь ранением, сумел попасть в полковой обоз. В то время я презирал таких людей. Позже стал понимать их, сделался более терпимым. Саше Голику вернули за удачный поиск сержантские погоны и назначили командиром отделения. Фактически же он исполнял обязанности помощника командира взвода. Меня это устраивало.
Если на участке нашего полка в мае сорок третьего стояла относительная тишина, то для меня месяц был заполнен большими и мелкими событиями. В течение мая я трижды ходил в поиск. Первый раз – неудачно. Нас обстреляли, ранили разведчика, второй влез локтем на мину. Ему оторвало руку и снесло полголовы. Немцы открыли сумасшедший огонь из пулеметов, погиб еще один разведчик. От полного уничтожения группу спасла густая трава, в которой мы затаились. В общем, почти все разведчики вышли из строя. Вместо «языка» мы кое-как вынесли тела убитых.
Когда делали «разбор полетов», выяснилось, что парень, попавший на мину, растерялся, пополз в сторону мимо отмеченного саперами прохода. Но прежний страх перед минами снова сковывал меня. Вторая вылазка завершилась удачно. Мы выкрали часового и благополучно доставили к своим. Я был в этом поиске заместителем Голика. Меня хвалили и говорили, что становлюсь настоящим разведчиком. Конечно, это было не так. Чтобы стать специалистом в разведке, требуются месяцы и постоянная тренировка.
Третья вылазка тоже завершилась взятием «языка». Один разведчик был убит. «Язык» сообщил в штабе какие-то ценные сведения. Меня представили к медали «За отвагу», которую я вскоре получил. Я очень гордился этой наградой. Медаль «За отвагу» высоко ценилась среди бойцов и офицеров. Давали ее за конкретные боевые дела на поле боя с указанием, что совершил представленный к медали. Кстати, в сорок третьем (по крайней мере, в первой половине года) наградами никого не баловали. Представляли многих, но получали награды единицы. Больше ограничивались благодарностями. А вскоре я вляпался в ситуацию, которая едва не стоила мне жизни и лишний раз показала, что разведка очень непростое дело.
В обязанности разведчиков входило наблюдение за передним краем. Каждый день несколько человек выползали на нейтралку и следили в бинокли за немецкими позициями. Действовали, как правило, парами. Это была тоже разведка, и причем очень рискованная. Если несколько раз вылазки обошлись для меня с напарником нормально, то в очередную вылазку мы выбрали неудачную позицию, закопавшись под тяжелый немецкий бронетранспортер. Сгоревшая во время мартовского наступления немцев восьмитонная машина уткнулась остатками передних обугленных колес в землю. Шестиметровый корпус более чем наполовину защищали снизу гусеницы и металлические, в полтора ряда, колеса. Чем не укрытие!
Я не учел одного. Раньше мы прятались в незаметных окопчиках среди кустов и далеко вперед не выползали. В этот раз подобрались метров на триста к немецким траншеям. Сквозь просветы в гусеницах я отлично видел лица врагов. На участке, длиной в полкилометра, насчитал шесть пулеметов, в том числе один крупнокалиберный. Два из них были хорошо замаскированы и раньше огонь не вели. Я с удовольствием нанес пулеметные точки на карту. Нас заметили ближе к вечеру. Или уловили отблеск бинокля в лучах переместившегося к западу солнца, или мы слишком много двигались, разминая затекшие мышцы.
Сначала влепили несколько пулеметных очередей. Пули плющились, рикошетили от металла. Мы затаились. Потом заработали минометы. Мина взорвалась, влетев в открытый десантный кузов в метре над нашими головами. Ощущение было как от удара молотом по железной бочке. Минометный обстрел выдержали, даже приободрились. Но за нас взялись крепко. Ударила с закрытой позиции 75-миллиметровая пушка. Это было серьезнее. По нам выпустили десятка два снарядов. Несколько штук снесли верх кузова, разорвали его почти пополам. Два фугаса рванули под гусеницами. Вышибло металлическое колесо, меня отбросило в глубину нашей норы. Я оглох, у обоих текла кровь из носа и ушей. По движению губ уловил фразу, которой напарник оценил мою сообразительность:
– Пиндец! Хорошее место выбрал, старшой. Здесь и останемся.
Он был недалек от истины. Под прикрытием пулеметных очередей к нам ползли трое немцев. Бронетранспортер служил им прикрытием от огня из наших траншей, до которых было полкилометра. До немцев, как я упоминал, метров триста. С моей стороны было непростительной авантюрой лезть под нос фрицам, да еще тащить за собой подчиненного. Конечно, мы много разглядели за день наблюдения, редко кто подбирался к немцам так близко. Но что стоили эти сведения, если мы оказались в ловушке!
А трое немцев умело и быстро ползли к нам, им был знаком каждый метр, да еще прикрывали пулеметы. Какую гадость от них ждать, можно было только догадываться. Забросают бутылками с горючей смесью, и поджаримся живьем. Им, небось, и кресты и отпуска за ликвидацию русских разведчиков пообещали. Мы открыли огонь из автоматов. В щель от выбитого колеса сразу полетели пули немецкого МГ-42. Напарнику пробило насквозь щеки. Он лежал на дне окопчика и отплевывался кровью. Я выпустил остаток диска наугад, вставил запасной и переполз к передним колесам.
Кто видел, как бьет автомат ППШ, представляет клубок пламени, вылетающий из ствола и отверстий кожуха. Отличная мишень! Меня снова загнали в окоп, но кого-то из немцев я крепко зацепил. Продолжал стрелять, меняя места, держа автомат над головой. Меня и напарника спасли наши минометчики, открыв беглый отсечный огонь. Мы вылезли из-под бронетранспортера и сумели отползти метров на семьдесят. С час пролежали в глубокой воронке. Я почти оглох и, выкопав выемку, наблюдал за немецкими траншеями, готовый открыть огонь, если нас попытаются взять живыми. Напарник мучался от боли, стонал, рвался куда-то бежать, пока не получил пулю в руку. Начало смеркаться, и мы кое-как доползли до своих.
До сих пор не понимаю, как нас немцы выпустили живыми. Нахожу лишь одно объяснение. Позиции фрицев были сильно прорежены, солдат не хватало, да и наши минометы шорох навели. Ну, и, конечно, везение. Эта разведка стала для меня уроком. Кстати, реакция на результаты была разная. Лейтенант Федосов нанес на карту замеченные нами огневые точки и хвалил меня за решительность. Потом сразу пошел к начштаба докладывать о результатах. Саша Голик после ужина, когда я немного успокоился, отчитал меня:
– Ты головой соображаешь? Залез фрицам под самый нос. Ведь я тебя предупреждал: есть смелость, а есть глупость. Тебя сегодня Бог спас, а напарник в госпиталь угодил.
Видя, как я сник, Саша обнял меня, сказал, что я смелый парень. Мы выпили еще, я признал свою неосмотрительность. На этом инцидент был исчерпан. Кстати, утром, перед строем, лейтенант Федосов объявил мне благодарность за добытые важные сведения. Но я уже получил от Голика и остальных старых разведчиков оценку своего «подвига». Благодарность выслушал и коротко ответил, ни на кого не глядя:
– Служу трудовому народу!
Как и положено по уставу.
…Была середина июня. В воздухе висело предчувствие большого сражения, которое позже назовут Курской битвой. Мы стояли южнее Курского выступа. Наша дивизия входила в состав резерва Главного командования. Большинство подразделений находились в 15-20 километрах от линии фронта. Полк также отвели во второй эшелон. Несмотря на удаленность от переднего края, все подразделения спешно окапывались, рыли глубокие щели. Наш взвод вел наблюдение. Не за немцами, а скорее выполнял функции специальных постов и патрулей. Мы проверяли документы у водителей машин, следующих вне воинских колонн, задерживали подозрительных военнослужащих, гражданских лиц.
Не знаю, попадались ли среди них шпионы, но мы добросовестно передавали их в комендатуру и особый отдел. Запомнился парень лет восемнадцати. Он кинулся убегать. Бежал быстро, мог скрыться в кустарнике, и мы открыли огонь. Пробили ему голень. Он катался по земле, кричал от сильной боли. Когда перевязали и стали допрашивать, беглец сознался, что его призвали в армию, а «мамка» спрятала в дальнем сарае.
– У нас отец и два брата погибли. Кроме меня, трое малых остались. Мамка сказала, что все равно немцы придут, хоть один мужик в семье уцелеет.
Мне показалось, что парень не совсем нормальный. Я посоветовал ему в особом отделе каяться и не болтать лишнего про «мамку» и про то, что придут немцы. В сентябре 1943 года, когда шло наступление, часть бойцов и командиров нашего полка передали из 4-й армии резерва Главного командования в 1235-й стрелковый полк, входящий в состав 52-й армии. Пополняли части, понесшие серьезные потери в ходе Курской битвы и дальнейшего наступления. Я попрощался с Сашей Голиком, другими ребятами и вместе с группой солдат, сержантов и офицеров прибыл на новое место службы. Такой же разведвзвод и должность та же – командир отделения пешей разведки.
Командиром взвода был старший лейтенант Чистяков. Коротко стриженный, в пилотке, легких брезентовых сапогах, он встретил меня доброжелательно. Познакомил со взводом, расспросил о службе и сказал, что нуждается в опытных разведчиках. Опытным я себя не считал. Но если учесть, что половина взвода были новички, то здесь на меня смотрели как на бывалого командира отделения. Я откровенно рассказал, что в поисках участвовал всего несколько раз.
– Ничего, – успокоил Чистяков. – Войну ты уже понюхал, под огнем побывал. Медалью «За отвагу» так просто не награждают. А что лишнего не хвалишься, это хорошо.
Чистяков был более опытным командиром, чем Федосов, более решительным, изобретательным. Он «перетягивал» к себе во взвод саперов, радистов, артиллеристов. У нас был свой переводчик, не слишком большой знаток, но умевший перевести нужные вопросы и ответы. Хотя взвод считался пешим, Чистяков обзавелся двумя трофейными мотоциклами. Имелось достаточное количество биноклей и хорошая стереотруба. Автоматы были наши, пистолеты и ножи у некоторых разведчиков – трофейные.
Фронт на участке армии какое-то время стоял на месте. Мы находились километрах в восьмидесяти от Полтавы. Расстояние до немецкого переднего края составляло от 400 до 700 метров. Мощных укреплений противник возвести не успел. Спешно минировались подходы, немцы устанавливали по ночам бронеколпаки, зарывали в землю танки. Я знал, что долго стоять на месте не будем. Шло наступление на Днепр, и передышки были короткими.
Два дня я вел вместе с отделением наблюдение за передним краем, а затем был направлен с группой за «языком». Полковая разведка действовала очень активно. Зная, что скоро возобновится наступление, такие группы посылали часто. Командир полка требовал информацию о тех войсках, которые нам противостоят. Группу возглавлял сержант Михась, белорус из-под Орши. Вначале я думал, что это его имя, оказалось – фамилия. Так его все и называли. Жилистый, с очень сильными цепкими руками, он имел немалый опыт и напоминал мне Сашу Голика. Два человека были из моего отделения. Ваня Уваров, тоже крепкий парень, до войны занимался борьбой. В группе был еще паренек из-под Казани. Фамилию его я не запомнил.
Каждая вылазка за «языком» словно нырок в холодную воду. Заранее представляешь, как ползешь через нейтралку, замираешь при свете ракет, а что ждет впереди, один Бог знает. Мы взяли зазевавшегося часового и благополучно вернулись. По нам открыли огонь, когда группа уже была рядом с нашими траншеями. Помню, что пленного вначале допросили прямо в землянке Чистякова. Как вели себя пленные? Они прекрасно знали, если начнут отпираться, изображать героев, хорошего не жди. Говорить все равно заставят, а за упрямство могут и пристрелить.
Отмечу сразу, в сентябре сорок третьего года фрицы не чувствовали себя побежденными. Их вера в Гитлера и в мощь своей армии была крепкой. Кроме того, они боялись за своих близких, которых могут отправить в концлагерь, за «предательство». Тот пленный изворачивался, плел очевидные вещи, которые мы знали и без него. Потом разговорился, но мы никогда не верили пленным. Поэтому всегда старались взять контрольного «языка». А вот с контрольным у нас получилась неувязка.
В ночь, когда я отдыхал, на другом участке предприняли новую вылазку. С одной стороны, лезть за «языком» два раза подряд было опасно. А с другой, несмотря на строгие приказы начальства, немецкие солдаты на переднем крае несколько расслаблялись, считая, что русские две вылазки подряд не повторят. Повторили. И нарвались на неожиданность. Немцы осветили передний край «люстрами». Так мы называли большие светящиеся ракеты, которые запускали из минометов. «Люстры» медленно снижались на парашютах, заливая все вокруг ярким светом. Разведгруппа оказалась как на ладони. Несмотря на то что ребята лежали неподвижно, по ним открыли такой огонь, что они вынуждены были отползать. Четверо разведчиков погибли, а двое оставшихся в живых получили ранения.
Мемуары, мемуары… Кто их пишет? Какие мемуары могут быть у тех, кто воевал на самом деле? У лётчиков, танкистов и прежде всего у пехотинцев? Ранение – смерть, ранение – смерть, ранение – смерть – и всё! Иного не было. Мемуары пишут те, кто был около войны. Во втором эшелоне, в штабе. Либо продажные писаки, выражавшие официальную точку зрения…
Мемуары рядового солдата Великой Отечественной войны – событие относительно редкое. Сравнительно низкий уровень общей грамотности, тяжесть испытаний, отсутствие времени и возможности на то, чтобы вникнуть в происходящее, прямые запреты ведения дневников в годы войны – всё это делало вероятность появления воспоминаний рядовых и сержантов крайне низкой. Да и что может вспомнить простой солдат, если все его силы и энергия уходили на то, чтобы выполнить поставленную задачу и остаться при этом в живых? Война рядового – это 500 метров до противника, столько же в тыл, до командира батальона и несколько сот метров по фронту роты. Это задача вида «достигнуть ориентира № 3 – поваленная береза, окопаться и ждать распоряжений». Всё, больше ничего. Поэтому солдатские мемуары – это прежде всего рассказ о тех людях, с кем пришлось делить последний сухарь, кто собирал по карманам махорочную пыль, чтобы свернуть козью ножку, кто шёл рядом те самые полкилометра до противника и кто лёг в сырую землю… Но вспоминать тяжело, потому что за каждым эпизодом притаились боль и страдания. В начале 70-х годов прошлого века Константин Симонов потратил сотни часов на интервью с полными кавалерами ордена Славы. Казалось бы, заслуженные люди с массой подвигов – сиди да рассказывай! Но, читая интервью, вдруг понимаешь, что Симонову приходится буквально клещами вытягивать из героев рассказ, и только грамотный вопрос на короткое время заставляет ветерана погрузиться в прошлое и выдать какие-то интересные подробности.
Война – это тяжелейшая травма для психики любого человека. Те, кто не смог с ней справиться, заканчивали жизнь самоубийством, спивались, уходили в криминал. Их жизненный путь был коротким и трагичным. Большинство же боролось с ней до конца жизни. Оставим классификацию путей преодоления военной психотравмы профессиональным психологам, однако за 15 лет работы над сайтом iremember.ru , опросив более 2000 человек, мы можем отметить несколько способов, к которым в основном прибегают ветераны, чтобы сохранить свою личность и не дать ужасам войны её разрушить:
Диссоциация – отделение себя от травмы. При этом рассказ о войне превращается в сплошной анекдот и состоит в основном из поиска еды и выпивки, смешных историй о встречах с противником и командирами.
Подавление – активное вытеснение негативных воспоминаний. Это те самые ветераны, которые «никогда не рассказывали о войне». Если такой человек соглашается на интервью, то рассказ его предельно жесток и наполнен подробностями.
Аннулирование – война просто стирается из памяти человека. Этот подход характерен для женщин-участниц войны, но бывает и с мужчинами.
Вымещение – форма психологической защиты, при которой негативная эмоциональная реакция направлена не на ситуацию, вызвавшую психическую травму, а на объекты, не имеющий к психотравме отношения. Чаще всего это люди, с которыми сам ветеран не общался или ситуации, в которых он не участвовал.
Последний способ борьбы личности с военной травмой мы рассмотрим подробнее, поскольку именно он ярко представлен на страницах мемуаров Николая Николаевича Никулина «Воспоминания о войне» (Государственный Эрмитаж. – 2-е изд. – СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008). Сам автор этого и не скрывает:
«В этой рукописи я решал всего лишь личные проблемы. Вернувшись с войны израненный, контуженный и подавленный, я не смог сразу с этим справиться. В те времена не было понятия «вьетнамский синдром» или «афганский синдром», и нас не лечили психологи. Каждый спасался, как мог».
Любые мемуары – вещь крайне субъективная. Часто они писались для однополчан, и в задачу мемуариста входило не забыть и не пропустить ни одной фамилии, дабы не обидеть хорошего человека. Но есть и те, что написаны для себя, чтобы оправдать свои действия, «облегчить душу», и т.п. Не скрывает этого и Николай Никулин, сообщая о том, что записал свои воспоминания, чтобы исторгнуть из себя всю мерзость войны. Исторгнуть получилось блестяще, но вызывает сомнения искренность автора. Прежде всего, отторжение вызывает описание Никулиным людей, с которыми его сводила война. Если человек в описании автора умелый воин и хороший специалист – следом он обязательно алкоголик, насильник, наделён физическими недостатками, и прочее. Если же описание человека начинается с положительных качеств – жди беды: это практически неизбежно, как в плохом детективе, будет последняя сволочь. В книге нет ни одного упоминания женщин на войне с положительной точки зрения – это исключительно объект сексуальных домогательств. И здесь мы должны ещё раз постулировать: взгляд мемуариста – это взгляд его души. Если человек заточен только на то, чтобы видеть негатив, ничего другого он увидеть не сможет. Включённая психологическая защита в форме вымещения не позволяет автору не то что быть объективным, а заставляет его выискивать, смаковать, а иногда и додумывать негативные ситуации и поступки.
Анализировать эти мемуары очень тяжело. В той или иной форме мы брались за рецензию его книги несколько раз, и каждый раз это заканчивалось ничем после нескольких написанных строчек. Однако празднование 70-летия Победы взвинтило градус споров о ценности книги до точки кипения, и мы всё же сочли необходимым высказаться. В последние годы воспоминания Никулина выкладываются на стол в любой дискуссии о правдивости тех или иных воспоминаний о войне как главный козырь, после чего спор часто переходит на личности. Отношение к книге у разных читателей строго противоположное: в зависимости от степени просвещённости в вопросах военной истории и политических пристрастий это либо «одна из немногих книг с «настоящей» правдой о войне», либо «грязный пасквиль, написанный с целью опорочить память солдат Великой Отечественной».
Нами предпринимались попытки проанализировать книгу Никулина исключительно на основе документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), однако невысокое воинское звание и должности автора мемуаров не позволили выполнить эту задачу в полной мере и полностью проследить его боевой путь. Удалось найти всего пару упоминаний лично сержанта Никулина, но об этом несколько позже. Тем не менее, изучение документов дало общее представление о событиях, описанных в книге, а также позволило получить подтверждение или опровержение некоторых эпизодов.
Следует сразу сказать, что фотографическая точность при упоминании через 30 лет (книга написана в 1975 году) дат, фамилий, географических названий позволяют с большой уверенностью предположить, что автор мемуаров вёл на фронте дневниковые записи. Именно эпизоды, описанные с их использованием, очень хорошо «ложатся в документы» ЦАМО, а вот появление фигур речи вида «наш полковник», «наш комиссар» или «сосед по госпитальной койке» сразу должно настораживать, так как они большей частью сулят только повторение баек, кочевавших по всему фронту, как говорится, «от Баренцева до Чёрного моря». Некоторые из них снабжены снимающими ответственность с автора оборотами («мне рассказывали»), но часть описана от первого лица.
Итак, начнём с предисловия:
«Мои записки не предназначались для публикации. Это лишь попытка освободиться от прошлого: подобно тому, как в западных странах люди идут к психоаналитику, выкладывают ему свои беспокойства, свои заботы, свои тайны в надежде исцелиться и обрести покой, я обратился к бумаге, чтобы выскрести из закоулков памяти глубоко засевшую там мерзость, муть и свинство, чтобы освободиться от угнетавших меня воспоминаний. Попытка наверняка безуспешная, безнадёжная…»
Бумага, как известно, «всё стерпит», и её использование в психотерапии опробовано давно и успешно. Вот только результат этой тяжелейшей внутренней работы, которую травмированный человек проводит над собой, изливая на бумагу свои переживания, выносить на публику действительно не стоило бы, по крайней мере в исходном виде.
«Эти записки глубоко личные, написанные для себя, а не для постороннего глаза, и от этого крайне субъективные. Они не могут быть объективными потому, что война была пережита мною почти в детском возрасте, при полном отсутствии жизненного опыта, знания людей, при полном отсутствии защитных реакций или иммунитета от ударов судьбы» .
Абсолютно честное и точное замечание, которое должно насторожить тех, кто пытается представить книгу Никулина как истину в последней инстанции и как единственную правдивую книгу о войне. Однако это всего лишь один из взглядов на войну, где все люди – сволочи, завшивленные и вонючие, где все мысли – только о вкусной еде и тёплой постели, где кругом – только трупы и грязь. Впрочем, существуют и другие точки зрения людей, справившихся с травмой иным способом или вообще избавившихся от неё. Прекрасным примером могут служить воспоминания Мансура Абдулина «От Сталинграда до Днепра», Василия Брюхова «Бронебойным, огонь!» и многие другие.
«Мой взгляд на события тех лет направлен не сверху, не с генеральской колокольни, откуда всё видно, а снизу, с точки зрения солдата, ползущего на брюхе по фронтовой грязи, а иногда и уткнувшего нос в эту грязь. Естественно, я видел немногое и видел специфически».
Сложно сказать, осознанно ли автор нарушил эту декларацию, или ему просто не удалось удержаться от соблазна высказать свои взгляды на тактику и стратегию, но описаний, как надо было правильно действовать командирам всех рангов вплоть до Верховного Главнокомандующего в той или иной ситуации, в книге предостаточно. Вот лишь пара примеров:
«…Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и три-четыре десятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение, имела 6 – 7 тысяч штыков, а в конце операции её потери составляли 10 – 12 тысяч – за счёт постоянных пополнений! А людей всё время не хватало! Оперативная карта Погостья усыпана номерами частей, а солдат в них нет… Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку, проверить, сделано ли всё возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать тёплое укрытие и лезть под пули…»
«Из штаба, по карте командовал армией генерал Федюнинский, давая дивизиям приблизительное направление наступления ».
Перефразируя известную цитату, скажем: «товарищ гвардии сержант упрощает».
Можно перечислять подобные познания о действиях командиров бесконечно. Однако вернёмся к первым военным воспоминаниям автора:
«Врезалась в память сцена отправки морской пехоты: прямо перед нашими окнами, выходившими на Неву, грузили на прогулочный катер солдат, полностью вооружённых и экипированных. Они спокойно ждали своей очереди, и вдруг к одному из них с громким плачем подбежала женщина. Её уговаривали, успокаивали, но безуспешно. Солдат силой отрывал от себя судорожно сжимавшиеся руки, а она всё продолжала цепляться за вещмешок, за винтовку, за противогазную сумку. Катер уплыл, а женщина ещё долго тоскливо выла, ударяясь головою о гранитный парапет набережной. Она почувствовала то, о чём я узнал много позже: ни солдаты, ни катера, на которых их отправляли в десант, больше не вернулись».
Здесь мы видим ошибку, типичную не только для воспоминаний Николая Никулина, но и для других мемуаров, когда логическое построение делается на основе недостаточного количества фактов. Вчерашний школьник Николай видит и остро переживает сцену прощания. Больше этот катер он не видит и, скорее всего, до него доходит информация, что огнём противника один из катеров (может быть, даже этот) потоплен, а находившиеся на нём погибли. Со временем эти события выстроились в логическую цепочку «отправка – женщина – смерть». Возможно, Николай стал свидетелем погрузки участников Петергофского десанта, из которых действительно не выжил практически никто, но это не даёт ему права на обобщения.
«Баржа, между тем, проследовали по Неве и далее. На Волхове её, по слухам, разбомбили и утопили мессершмитты. Ополченцы сидели в трюмах, люки которых предусмотрительное начальство приказало запереть – чтобы, чего доброго, не разбежались, голубчики!»
Хорошо, что в описание эпизода добавлено снимающее с автора любую ответственность за достоверность примечание «по слухам». Понять логику действий кровожадных и глупых командиров сложно – в трюмы под непременный замок загоняются… добровольцы ленинградского ополчения. Чтобы не передумали, забыв, что они добровольцы? Как и в предыдущем случае – кто рассказал про эпизод автору? Погибшие в запертых трюмах ополченцы, те, кто их там запер, или немецкие лётчики похвастались? Читатель этой книги должен быть очень внимательным, отслеживая источник информации автора. Слухи, или «сарафанное радио», – это интернет того времени. Они самопроизвольно рождались и умирали, и чем тяжелее была обстановка на фронте, тем невероятнее были предположения. Даже в конце войны ходили разговоры о том, что с немцами заключат мирный договор. Сынкова Вера Савельевна вспоминает о том, как входили немцы в их село: «К тому времени по селу активно пошли слухи – говорили, что тех, у кого обстриженные волосы, будут стрелять. А у меня, как назло, короткие волосы. Что делать?! В магазине имелась деревянная лоханка, я её на голову надела и через сад стала пробираться домой». Таких историй было сотни, и попытка выстроить на них повествование приведёт только к искажению реальности.
«…Какой смешной сержант: «Ага, вы знаете два языка! Хорошо – пойдёте чистить уборную!» Уроки сержанта запомнились на всю жизнь. Когда я путал при повороте в строю правую и левую стороны, сержант поучал меня: «Здесь тебе не университет, здесь головой думать надо!»
Сержант должен был быть не только смешным, но и очень наблюдательным – как он сумел по внешнему виду красноармейца Никулина определить, что тот владеет двумя языками? Обычно такие подробности становятся причиной насмешек и издевательств, будучи упомянутыми не к месту – не надо подчеркивать знание языков, когда об этом не просят. Здесь нужно сделать одно важное уточнение: Николай Никулин вырос в городе, в интеллигентной семье и, вероятно, был лишён возможности общаться с простыми и малограмотными людьми, которых в Советском Союзе начала 40-х годов было большинство. Человек, у которого было четыре класса начальной школы, то есть, умевший кое-как читать-писать и знавший простые арифметические действия, мог рассчитывать на карьеру младшего командира, а при определённом везении и старании – и на получение среднего профессионального и даже высшего образования. Жизнь в предвоенные годы была трудна, так что с воспитанием у сержантов и старшин не всегда дело обстояло хорошо. И уж точно, им не за что было любить наглых юнцов, росших на всём готовом и закончивших среднюю школу, за что с 1940 года полагалось платить.
«В августе дела на фронте под Ленинградом стали плохи, дивизия ушла на передовые позиции, а с нею вместе – половина наших курсов в качестве пополнения. Все они скоро сгорели в боях».
Таких обобщений разбросано по тексту много. Автор легко экстраполирует свой личный опыт или опыт рассказывавших ему людей на всю Красную армию, советский народ и страну в целом. Очень многие оценочные суждения Николая Никулина опираются не на систему фактов, а на единичные частные случаи. Поэтому от читателя требуется огромное внимание, чтобы при изучении книги постараться отделить факты от домыслов и обобщений. Просто ещё один пример:
«…Лучше всех была судьба тех, кто попал в полки связи. Там они работали на радиостанциях до конца войны и почти все остались живы. Хуже всех пришлось зачисленным в стрелковые дивизии: «Ах, вы радисты, – сказали им, – вот вам винтовки, а вот – высота. Там немцы! Задача – захватить высоту!»
Хороший мемуарист всё же должен говорить только за себя!
«…Горели Бадаевские продовольственные склады. Тогда мы ещё не могли знать, что этот пожар решит судьбу миллиона жителей города, которые погибнут от голода зимой 1941 – 1942 годов» .
Теперь уже точно известно, что пожар Бадаевских складов не решил ничего. Там действительно хранились огромные запасы продовольствия, но в реальности, с учётом снабжения всего города, их могло бы хватить максимум на неделю. Спасли бы эти продукты лишние жизни, или нет, сказать сложно. Как бы то ни было, 8 сентября, когда немцы разбомбили Бадаевские склады, в Ленинград по Ладоге уже шли первые баржи с продовольствием. Но это совсем другая история.
Описание собсвенной внешности и способностей выглядит неприглядно:
«Я был никудышный солдат. В пехоте меня либо сразу же расстреляли бы для примера, либо я сам умер бы от слабости, кувырнувшись головой в костёр: обгорелые трупы во множестве оставались на месте стоянок частей, прибывших из голодного Ленинграда. В полку меня, вероятно, презирали, но терпели».
«…Я уже был дистрофиком и выделялся среди солдат своим жалким видом»… «Со временем я в кровь расчесал себе тощие бока, и на месте расчёсов образовались струпья» … «Я собирал сухари и корки около складов, кухонь – одним словом, добывал еду, где только мог».
«Для меня Погостье было переломным пунктом жизни. Там я был убит и раздавлен. Там я обрёл абсолютную уверенность в неизбежности собственной гибели. Но там произошло моё возрождение в новом качестве. Я жил как в бреду, плохо соображая, плохо отдавая себе отчёт в происходящем. Разум словно затух и едва теплился в моём голодном, измученном теле».
«…В благодарность за службу начальник столовой дал нам большой чан с объедками, оставшимися от офицерского завтрака. Мы сожрали их с восторгом, несмотря на окурки, изредка попадавшиеся в перловой каше».
«…Обовшивевший, опухший, грязный дистрофик, я не мог как следует работать, не имел ни бодрости, ни выправки. Моя жалкая фигура выражала лишь унылое отчаяние. Собратья по оружию либо молча неодобрительно сопели и отворачивались от меня, либо выражали свои чувства крепким матом: «Вот навязался недоносок на нашу шею!»
Судя по разбросанным в книге то тут, то там описаниям взаимоотношений с сослуживцами, Николай Никулин не только не пользовался авторитетом, но был как минимум объектом насмешек, а как максимум презираем. Мужской армейский коллектив – очень жёсткая среда, и если складывается так, что «твоё место у параши», то и выбраться с этого места можно только поменяв часть, что автору и удаётся под конец войны. Так что неудивительно, что сослуживцы не любят того, кто для них бесполезен и чью долю трудностей им приходится брать на себя. Нет ничего удивительного и в том, что эта нелюбовь взаимна, и именно поэтому все люди у Николая Никулина выглядят неприглядно – как говорится, алаверды!
«…Теперь эта операция, как «не имевшая успеха», забыта. И даже генерал Федюнинский, командовавший в то время 54-й армией, стыдливо умалчивает о ней в своих мемуарах, упомянув, правда, что это было «самое трудное, самое тяжёлое время» в его военной карьере ».
Речь идёт о неудачной Любанской операции, проведённой в январе-апреле 1942 года. Вот только генерал Федюнинский в своих мемуарах не умалчивает о неудаче, а посвящает ей целую главу своей книги «Поднятые по тревоге» с красноречивым названием «Этого могло не случиться», где делает разбор причин провала этой попытки деблокирования Ленинграда. Книга мемуаров генерала Федюнинского написана в 1961 году, за 15 лет до того, как бывший сержант Никулин сел писать свои воспоминания.
«…станцию Погостье наши, якобы, взяли с ходу, в конце декабря, когда впервые приблизились к этим местам. Но в станционных зданиях оказался запас спирта, и перепившиеся герои были вырезаны подоспевшими немцами. С тех пор все попытки прорваться оканчиваются крахом. История типичная! Сколько раз потом приходилось её слышать в разное время и на различных участках фронта!»
Одна из самых распространённых фронтовых баек, ходивших по всем участкам фронта, не имеющая под собой документальных подтверждений. С ней конкурирует по популярности история про специально оставленные немцами цистерны со спиртом, захват которых позволяет им тут же отбить населённый пункт назад, поскольку все перепились. Не смог пройти мимо и Никулин, эта история всплыла уже при описании событий последнего года войны:
«…Я пришёл в подвал, когда на бетонном полу была лужа по колено, воздух, заполненный парами спирта, пьянил. Кое-где в жидкости виднелись ватные штаны и ушанки захлебнувшихся любителей выпить» .
Как уже упоминалось, нет в книге Николая Никулина ни одного уважительного упоминания женщины на войне. Все они выглядят либо бессловесными сексуальными рабынями, либо сознательными женщинами лёгкого поведения:
«…Голодным солдатам … было не до баб, но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. …И ехали девушки домой с прибавлением семейства. Кто-то этого искал сам … Бывало хуже. Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ, а если сопротивлялись – на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду! Потом крошка шла по рукам, доставалась разным помам и замам. В лучших азиатских традициях!»
Судьба женщин на фронте чаще всего была очень непростой, да и после войны им досталось – почти десять лет слова «фронтовичка» и «шлюха» были практически синонимами. Вот что об этом вспоминал другой ветеран Василий Павлович Брюхов: «Вообще, у меня отношение к женщинам всегда было самое трогательное. Ведь у меня самого было пять сестёр, которых я всегда оберегал. Поэтому я к девчонкам был очень внимателен. Ведь девчонки мучились-то как?! Им же труднее было в сотню раз, чем нам, мужикам! Особенно обидно за девчонок-медсестёр. Они же на танках ездили, с поля боя раненых вывозили и, как правило, получали медаль «За Боевые Заслуги» – одну, вторую, третью. Смеялись, что получила «За половые потуги». Из девчонок редко кто орден Красной Звезды имел. И те, кто ближе к телу командира. А после войны как к ним относились?! Ну, представь: у нас в бригаде тысяча двести человек личного состава. Все мужики. Все молодые. Все подбивают клинья. А на всю бригаду шестнадцать девчонок. Один не понравился, второй не понравился, но кто-то понравился, и она с ним начинает встречаться, а потом и жить. А остальные завидуют: «А, она такая-сякая. ППЖ». Многих хороших девчонок ославили. Вот так» . Поскольку Николай Никулин из тех, кому не досталось на фронте женской ласки, то с сожалением приходится констатировать, что в своих мемуарах он встал на путь того самого «ославления» всех 800 000 женщин-участниц войны.
«В начале войны немецкие армии вошли на нашу территорию, как раскалённый нож в масло. Чтобы затормозить их движение, не нашлось другого средства, как залить кровью лезвие этого ножа. Постепенно он начал ржаветь и тупеть и двигался всё медленней. А кровь лилась и лилась. Так сгорело ленинградское ополчение. Двести тысяч лучших, цвет города».
Общая численность боевой части ленинградского ополчения составляла порядка 160 000 человек, при этом не поддаётся сомнению, что части ополченцев удалось выжить. Например, Даниилу Гранину, который воевал до самой Победы и жив поныне. Воевал в Ленинградской армии народного ополчения и актер Борис Блинов, исполнитель роли Фурманова в «Чапаеве». Он выжил в июльских боях, был эвакуирован в Казахстан с киностудией «Ленфильм», успел сняться в «Жди меня» и умер в 1943 году от брюшного тифа.
«…И встаёт сотня Иванов, и бредёт по глубокому снегу под перекрёстные трассы немецких пулемётов. А немцы в тёплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, всё предусмотрели, всё рассчитали, всё пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулемётчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом – а они всё идут и идут, и нет им конца».
Разбирая этот эпизод, мы не будем останавливаться на уже несколько раз упомянутых обобщениях. Удивительно, но воспоминания бывших немецких солдат зачастую выглядят абсолютно так же, только в них именно «иваны» прекрасно экипированы, накормлены и занимают оборудованные позиции. Видимо, хорошо там, где нас нет?
«…Полки теряли ориентировку в глухом лесу, выходили не туда, куда надо. Винтовки и автоматы нередко не стреляли из-за мороза, артиллерия била по пустому месту, а иногда и по своим. Снарядов не хватало… Немцы знали всё о передвижениях наших войск, об их составе и численности. У них была отличная авиаразведка, радиоперехват и многое другое» .
Разумеется, вермахт был очень сильным противником, во многом превосходившим по своим боевым возможностям РККА. Однако делать из немецких солдат и офицеров киборгов, видящих расположение Красной армии насквозь, как минимум опрометчиво. Немецкие документы, так же, как и наши, пестрят сообщениями о плохом взаимодействии родов войск, опозданиях с выдвижением, плохой организации штабной и разведывательной работы. Если бы немцы были всезнающими, то разгрома их под Москвой просто не случилось бы, как и не случилось бы Победы. Возникает и вопрос: откуда в 1975 году бывший сержант Никулин знает о немецкой авиаразведке, радиоперехвате и другом? Более того, Никулин противоречит сам себе, приводя ниже по тексту воспоминания немецкого солдата:
«У нас не было зимней одежды, только лёгкие шинели, и при температуре −40, даже −50 градусов в деревянных бункерах с железной печкой было мало тепла. Как мы все это выдержали, остаётся загадкой до сих пор».
В очередной раз мы сталкиваемся с попыткой мемуариста не разобраться с теми тяжёлыми переживаниями, что сопровождали его жизнь на фронте, но отгородиться от них стеной общих фраз и бессмысленных обобщений.
«…я узнал как разговаривает наш командующий И. И. Федюнинский с командирами дивизий: «Вашу мать! Вперёд!!! Не продвинешься – расстреляю! Вашу мать! Атаковать! Вашу мать!» … Года два назад престарелый Иван Иванович, добрый дедушка, рассказал по телевизору октябрятам о войне совсем в других тонах…»
Интересно, что автор ставит на одну доску командиров, не способных выполнить приказ, и детей младшего школьного возраста. Видимо, генерал Федюнинский должен был говорить в обоих случаях одинаково, вот только непонятно, как именно?
«…Валенки сменили на ботинки с обмотками – идиотское устройство, всё время разматывающееся и болтающееся на ногах».
Приверженцев ботинок с обмотками в пехоте было немало. Многие ветераны войны отмечают, что в условиях межсезонья обмотки, игравшие роль эрзац-голенища, проявили себя лучше, чем сапоги. Вспоминает Желмонтов Анатолий Яковлевич: «Обмотки хороши – снег не попадает, сохнут быстро». Ему вторит Осипов Сергей Николевич: «Когда мы пришли на обувной завод «Батя», то чехи предложили нам бесплатно обменять наши ботинки с обмотками на сапоги. Но никто из солдат не захотел обмотки снимать, потому что сапоги трут ноги, а обмотки очень удобны на марше». Может быть, их просто надо было научиться правильно наматывать?
«…Став снайпером, я, однако, был назначен командиром отделения автоматчиков, так как не хватало младших командиров. Здесь я хватил горячего до слёз. В результате боёв отделение перестало существовать. Служба в пехоте перемежалась с командировками в артиллерию. Нам дали трофейную 37-миллиметровую пушку, и я, как бывший артиллерист (!?), стал там наводчиком. Когда эту пушку разбило, привезли отечественную сорокопятку, с ней я и «накрылся». Такова история моей славной службы в 311-й с. д. во время Мгинской операции 1943 года».
Казалось бы – вот об этом и надо писать! Как ходил на «охоту», как вело бои отделение. Кто те люди, что легли в нашу землю, и почему они не перечислены поимённо? А скорее всего потому, что ничего этого не было. Согласно алфавитной книге учёта рядового и сержантского состава 1067-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии, хранящейся в дивизионном фонде в архиве Министерства обороны (опись 73 646, дело 5) младший сержант Н. Н. Никулин ранен 23.08.1943 и из части убыл. Интересна указанная воинская учётная специальность раненого (ВУС) – № 121. Согласно перечню воинских специальностей, это санитар или санитарный инструктор, но никак не снайпер или наводчик. Это одно упоминание автора в документах частей и соединений, в которых ему довелось воевать.
Второй эпизод тоже противоречит воспоминаниям Никулина. Он пишет, что «стал своим» в 534-й отдельной медико-санитарной роте из-за череды ранений, и в итоге, после одного из них, так и остался в штате роты на должности старшины (по сути – административно-хозяйственной должности). Уцелевший приказ по 48-й Гвардейской тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде от 31 августа 1944 года (фонд 48-й Гв.ТГАБр, оп.2, д.2, л.116) сообщает об исключении с довольствия личного состава. В конце списка после убитых, пропавших без вести и раненых идёт список убывших по болезни, и последняя строчка гласит: «…18. Радиотелеграфиста старшего 1-й батареи Гв. мл. сержанта Никулина Н. Н. – в 543 мср с 31.08.1944» . Вот такое вот не вполне героическое убытие с передовой, которому нет места в правдивых мемуарах.
«Перед боями нам вручали дивизионное знамя. … Проходя перед строем, полковник искал двух ассистентов для сопровождения знамени. … Самым подходящим неожиданно оказался… я, вероятно, из-за моих многочисленных медалей и гвардейского значка».
В 1943 году у автора не было ни гвардейского звания, ни «многочисленных медалей» – первую медаль «За Отвагу» он получит через год, в июле 1944 года. Максимум, что мог получить Николай Никулин к лету 1943 года, – медаль «За оборону Ленинграда», учреждённую в декабре 1942-го, но была ли она редкой среди солдат, воевавших на том же участке фронта?
«…Однажды в морозный зимний день 1943 года наш полковник вызвал меня и сказал: «Намечается передислокация войск … возьми двух солдат, продукты на неделю и отправляйся, чтобы занять заблаговременно хорошую землянку для штаба. Если через неделю мы не приедем, возвращайся назад».
Какую должность должен был занимать младший сержант Никулин, чтобы «наш полковник» его откуда-то вызывал?
«Вот как рассказала одна медицинская сестра о том, что она … увидела: «…Внезапно из облаков вывалился немецкий истребитель, низко, на бреющем полёте пролетел над поляной, а пилот, высунувшись из кабины, методично расстреливал автоматным огнём распростёртых на земле, беспомощных людей. Видно было, что автомат в его руках – советский, с диском!»
Никита Сергеевич Михалков, видимо, решил творчески переработать и использовать данный эпизод в своей картине «Утомлённые солнцем-2», где стрелок немецкого бомбардировщика решает «бомбить» транспорт с эвакуированными собственными экскрементами. Попробовал бы автор высунуть из кабины летящего на скорости 300–400 километров в час истребителя какую-то часть тела – возможно, не довелось бы людям читать откровенно глупые байки и смотреть такое же глупое кино.
«Неужели нельзя было избежать чудовищных жертв 1941 – 1942 годов? Обойтись без бессмысленных, заранее обречённых на провал атак Погостья, Синявино, Невской Дубровки и многих других подобных мест?»
Видимо, можно было. Или нельзя. В любом случае, это не входит в компетенцию сержанта Никулина, взгляд которого «на события тех лет направлен не сверху, не с генеральской колокольни, откуда всё видно, а снизу, с точки зрения солдата» . Кстати, в качестве оправдания Никулина, стоит упомянуть о том, что с местом его войны ему не повезло – примерно как несчастным канадцам 1917 года под Пашендалем, или русским солдатам осени 1916 года в Ковельском тупике. Позиционная война, «бои за избушку лесника», продвижение на 30 метров после трёхнедельной артиллерийской подготовки. Увы, Никулин, как и его сослуживцы, оказался в аду.
Сложно судить профессиональных качествах послевоенного искусствоведа Никулина, но то, что он неоправданно смело берётся за математические подсчёты, очевидно. Вот его методика подсчёта потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне:
«О глобальной статистике я не могу судить. 20 или 40 миллионов, может, больше? Знаю лишь то, что видел. Моя «родная» 311-я стрелковая дивизия пропустила через себя за годы войны около 200 тысяч человек. (По словам последнего начальника по стройчасти Неретина.) Это значит, 60 тысяч убитых! А дивизий таких было у нас более 400. Арифметика простая… Раненые большей частью вылечивались и опять попадали на фронт. Всё начиналось для них сначала. В конце концов, два-три раза пройдя через мясорубку, погибали. Так было начисто вычеркнуто из жизни несколько поколений самых здоровых, самых активных мужчин, в первую очередь русских. А побеждённые? Немцы потеряли 7 миллионов вообще, из них только часть, правда, самую большую, на Восточном фронте. Итак, соотношение убитых: 1 к 10, или даже больше – в пользу побеждённых. Замечательная победа! Это соотношение всю жизнь преследует меня как кошмар. Горы трупов под Погостьем, под Синявино и везде, где приходилось воевать, встают передо мною. По официальным данным, на один квадратный метр некоторых участков Невской Дубровки приходится 17 убитых. Трупы, трупы» .
Обратите внимание, что автор сам себе отказывает вправе делать такие заявления («я не могу судить»), но тут же об этом забывает. Если взять минимальные размеры «Невского пятачка» из всех, упоминаемых в литературе, т.е. 1000 на 350 метров, и перемножить на 17, получится 6 000 000 погибших советских солдат. Не маловато ли для описания действий бездарных полководцев, может быть, надо добавить ещё?
«Оказывается, рациональные немцы и тут всё учли. Их ветераны чётко различаются по степени участия в боях. В документах значатся разные категории фронта: I – первая траншея и нейтральная полоса. Этих чтят (в войну был специальный знак за участие в атаках и рукопашных, за подбитые танки и т. д.). II – артпозиции, штабы рот и батальонов. III – прочие фронтовые тылы. На эту категорию смотрят свысока» .
Налицо полное незнание реалий жизни немецких ветеранов Второй мировой после войны или сознательное искажение фактов. Процесс денацификации в послевоенном немецком обществе, как в ГДР, так и в ФРГ, привёл к тому, что к бывшим солдатам вермахта, не говоря об СС, сложилось общее отношение как к военным преступникам, и никто и не думал их чтить. Говорить о каких-либо льготах или военных пенсиях тоже не стоит – время военной службы в гитлеровской армии просто зачли в общий трудовой стаж. О каких документах и категориях ведёт речь Никулин?
«…У стереотрубы стоял наш командир – статный, красивый молодой полковник. Свежевыбритый, румяный, пахнущий одеколоном, в отглаженной гимнастёрке. Он ведь спал в удобной крытой машине с печкой, а не в норе. В волосах у него не было земли, и вши не ели его. И на завтрак у него была не баланда, а хорошо поджаренная картошка с американской тушёнкой. И был он образованный артиллерист, окончил Академию, знал своё дело. В 1943 году таких было очень мало, так как большинство расстреляли в 1939 – 1940 годах, остальные погибли в сорок первом, а на командных постах оказались случайно всплывшие на поверхность люди».
Если абстрагироваться от зависти и ненависти к командирам, которые выглядят не так, как автор, стоит задать только один вопрос: как же это Красная армия уцелела до появления красавцев-полковников? Неужели «случайно всплывшие на поверхность люди» и полуграмотные сержанты воевали против немцев, и воевали, несмотря на все ошибки, неплохо? Или всё-таки не всех расстреляли? А ведь полковник мог в 1941 году быть лейтенантом, да и в Академию попал не просто так. Не удивимся, если выяснится, что в те годы, когда Никулин учился в школе, полковник уже «тянул лямку» в артиллерийской школе Наркомпроса. Но подобные мелочи автора не волнуют, волнует другое:
« Опухший от голода, ты хлебаешь пустую баланду – вода с водою, а рядом офицер жрёт масло. Ему полагается спецпаек да для него же каптенармус ворует продукты из солдатского котла ».
«…Мемуары, мемуары… Кто их пишет? Какие мемуары могут быть у тех, кто воевал на самом деле? У лётчиков, танкистов и прежде всего у пехотинцев? Ранение – смерть, ранение – смерть, ранение – смерть –и всё! Иного не было. Мемуары пишут те, кто был около войны. Во втором эшелоне, в штабе. Либо продажные писаки, выражавшие официальную точку зрения, согласно которой мы бодро побеждали, а злые фашисты тысячами падали, сражённые нашим метким огнём. Симонов, «честный писатель», что он видел? Его покатали на подводной лодке, разок он сходил в атаку с пехотой, разок – с разведчиками, поглядел на артподготовку – и вот уже он «всё увидел» и «всё испытал»! (Другие, правда, и этого не видели.) Писал с апломбом, и всё это – прикрашенное вранье. А шолоховское «Они сражались за Родину» – просто агитка! О мелких шавках и говорить не приходится».
Странная логика. Во-первых, к моменту написания Никулиным своих воспоминаний было опубликовано достаточное количество мемуаров людей, о которых даже тогда было доподлинно известно, где и как они воевали. Были среди них и лётчики, и танкисты, и даже пехотинцы были. Да, не все обладали таким литературным даром, как Никулин, да, многие мемуары были обработаны профессиональными писателями. Наконец, некоторые из мемуаров (например, знаменитые «Воспоминания танкиста» Г. Пенежко), больше напоминали байки барона Мюнхгаузена, но были и правдивые книги, которые «бьются» даже по документам, которые их авторам в то время просто не могли быть доступны. Что касается нападок на Шолохова, пусть они останутся на совести автора, воспоминания же Константина Симонова о войне читали многие. В чём его вина перед Никулиным – непонятно. Вероятно, военинтендант 2-го ранга, корреспондент «Красной Звезды» и муж Валентины Серовой должен был опуститься, кормить вшей и жрать помои. Тогда его воспоминания о войне, конечно же, в глазах Никулина сразу стали бы достойными уважения. Кстати, о «мелких шавках»: когда Никулин дописал мемуары, уже умер от рака Константин Воробьёв, автор «Убиты под Москвой», ещё не взошла звезда Вячеслава Кондратьева, хлебнувшего горя в Ржевской мясорубке, израненного и, в конце концов, демобилизованного по ранению. Его первая повесть «Сашка» вышла только в 1979 году. С ужасом представим себе, что написал её Николай Никулин. Могли бы с его пера сорваться такие строки? Весьма сомнительно:
«Они прибежали скоро – ладные, разрумяненные от бега, пилотки у них чуть набекрень, талии осиные брезентовыми красноармейскими ремнями перетянуты, шинельки подогнаны, и пахнет от них духами, москвички, одним словом… Принесли Сашке кружку кипятку, в которую при нём сахара куска четыре бухнули, буханку хлеба серого московского, точнее, не буханку, а батон такой большой, несколько пачек концентратов из вещмешка достали (причём гречку!) и, наконец, колбасы полукопчёной около килограмма.
– Вы ешьте, ешьте… – говорили они, разрезая батон, колбасу и протягивая ему бутерброды, а он от умиления и расстройства и есть-то не может.
А тут сели они около Сашки с обеих сторон. От одной отодвинется – к другой вплотную, как бы не набрались от него. И ерзал Сашка, а им, конечно, и в голову не приходит, чего он от них всё двигается. Хлопочут около Сашки, потчуют – одна кружку держит, пока он за хлеб принимается, другая колбасу нарезает в это время. И веет от них свежестью и домашностью, только форма военная за себя говорит – ждут их дороги фронтовые, неизвестные, а оттого ещё милее они ему, ещё дороже.
– Зачем вы на войну, девчата? Не надо бы…
– Что вы! Разве можно в тылу усидеть, когда все наши мальчики воюют? Стыдно же…
– Значит, добровольно вы?
– Разумеется! Все пороги у военкомата оббили, – ответила одна и засмеялась. – Помнишь, Тоня, как военком нас вначале…
– Ага, – рассмеялась другая.
И Сашка, глядя на них, улыбнулся невольно, но горькая вышла улыбка – не знают ещё эти девчушки ничего, приманчива для них война, как на приключение какое смотрят, а война-то совсем другое…
Потом одна из них, глядя прямо Сашке в глаза, спросила:
– Скажите… Только правду, обязательно правду. Там страшно?
– Страшно, девушки, – ответил Сашка очень серьёзно. – И знать вам это надо… чтоб готовы были.
– Мы понимаем, понимаем…
Поднялись они, стали прощаться, поезд их вот-вот должен отойти. Руки протянули, а Сашка свою и подать стесняется – черная, обожжённая, грязная, – но они на это без внимания, жмут своими тонкими пальцами, с которых ещё маникюр не сошёл, шершавую Сашкину лапу, скорейшего выздоровления желают, а у Сашки сердце кровью обливается: что-то с этими славными девчушками станется, какая судьба их ждёт фронтовая?»
Кстати, заметим, что в повести Кондратьева (в этой и в более поздних) есть и грязь, и вши, и голодуха, и полуграмотные бездарные командиры, но нет ненависти ко всему живому и яростного желания именно свой личный взгляд на войну навязать всем как единственно правильный (при постоянных и кокетливых оговорках о субъективности). Трудно поверить в то, что Никулин с 1975 года до публикации своей книги в 2007 году находился в неведении относительно и новых литературных произведений, и новых исторических исследований. Очевидно, что он для себя сформулировал всё и навсегда.
Можно долго ещё выуживать цитаты из мемуаров Николая Никулина (приведённые выше отрывки взяты из примерно первой трети книги), разбирать, где его личное знание, а где непроверенные слухи, которые он по своему внутреннему убеждению счёл правдой. Но занятие это – неблагодарное, да и сам автор ничего уже не сможет ответить на наши упрёки. При анализе его воспоминаний мы, прежде всего, хотели отметить их психотерапевтическую роль для автора. Нам кажется, что излив всю накопившуюся горечь на бумагу, Николай Николаевич таким образом заметно продлил свою жизнь, избавившись от страданий, которые ему причиняли воспоминания о войне. Что бы мы ни писали о его книге «Воспоминания о войне», это не отменяет того факта, что она – один из важных источников по истории Великой Отечественной войны. Испытания, выпавшие на долю Никулина, и в страшном сне не снились никому из нас и, возможно, сломали бы любого как физически, так и психически. Николай Николаевич Никулин, как и миллионы наших соотечественников, прошёл практически всю войну, закончил её в Берлине в звании Гвардии сержанта, награждённого двумя медалями «За Отвагу» и орденом Красной Звезды. Его воспоминания о войне – всего лишь штрих к огромному и трагичному полотну, которое он, великий ценитель искусства, рассмотрел под единственно ему доступным углом зрения. Он понимал, что его взгляд – это всего лишь одна из возможных интерпретаций того грандиозного исторического события, которым была война. Ни абсолютизация этого взгляда как единственно правильного, ни отрицание права на его существование ни в коем случае не допустимы, и книга Николая Никулина останется одним из многочисленных голосов, изувеченных войной. В любом случае, для полноты картины заинтересованный читатель не должен ограничивать себя только этим источником знания.
Авторы благодарят Артема Драбкина за помощь в работе над рецензиейПеред вами сборник воспоминаний солдат СС и Вермахта. Интервью взяты у них спустя много лет после Великой войны, когда прошло время, ушли эмоции, и каждый участник тех событий имел возможность более спокойно, беспристрастно оценить события прошлых лет.
Очевидцы рассказывают о том, как война начиналась, о тяготах и лишениях военного времени, об успехах и поражениях своих военных подразделений (армий? войск?), о судьбах простых солдат и о том, когда и как для каждого из них эта война закончилась. Вспоминают о тяжелых боях, плене, о походе на Восток и о бегстве на Запад, о русских солдатах и простых людях, которых они встречали на оккупированных территориях. Это воспоминания тех, кто когда-то был нашим врагом, сильным, хитрым, беспощадным врагом, которого мы смогли победить.
Невозможно усвоить уроки истории, воспринимая врага как абстрактную сущность, забыв о том, что на той стороне были такие же люди – со своими чувствами и мыслями, идеями и планами на жизнь. Если об этом забыть, то кошмар Великой Отечественной войны может повториться, а все потери и жертвы окажутся напрасными.
Эта книга – напоминание и предостережение всем, кто забыл о подвиге нашего народа. Мы обязаны помнить нашу историю и учиться на ошибках. Без прошлого у народа нет будущего. А врага надо знать в лицо.
Герой Советского Союза, генерал-майор С. М. Крамаренко
Предисловие
Желание опросить немецких ветеранов созрело у меня достаточно давно. Любопытно было взглянуть на события того времени со стороны противника, узнать реалии жизни не мае цк их солдат, их отношение к войне, к России, к морозу и грязи, к победам и поражениям. Во многом этот интерес питался опытом интервью с нашими ветеранами, в которых открывалась иная история, чем та, выхолощенная, изложенная на бумаге. Однако я совершенно не представлял, как к этому подступить, особенно учитывая свое незнание немецкого языка. Несколько лет я искал партнеров в Германии. Периодически появлялись русскоговорящие немцы, которым вроде бы эта тема была интересна, но проходило время, и оказывалось, что дальше деклараций дело не шло. И вот в 2012 году я решил, что пора приниматься за дело самому, поскольку времени ждать уже нет. Начиная этот проект, я понимал, что реализовать его будет непросто, и первой, самой очевидной, проблемой был поиск информантов. В Интернете был найден список ветеранских организаций, составленный еще, наверное, в 70-х годах. Я попросил живущую в Голландии, но хорошо говорящую по-немецки Ольгу Милосердову начать обзвон. Во-первых, выяснилось, что все эти организации – это один человек, координатор, у которого иногда можно было узнать о его однополчанах, но в основном ответ был простой: «Все умерли». Почти за год работы были обзвонены около 300 телефонов таких ветеранов-координаторов, из которых 96 % оказались неправильными, 3 % умерло и по полпроцента составляли те, кто либо отказался от интервью по разным причинам, либо согласился. По итогам этой части работы можно сказать, что неформальные ветеранские объединения в Германии (имеется в виду ее Западная часть, поскольку в Восточной они вообще были запрещены) практически перестали существовать с 2010 года. Связано это прежде всего с тем, что они создавались как частная инициатива. Через ветеранские организации не осуществлялось никакой материальной или иной помощи, и членство в них не давало никаких преимуществ в отличие от подобных объединений в бывшем СССР и России. Кроме того, практически не существовало объединений ветеранских организаций, за исключением ветеранской организации горнострелковых частей и организации кавалеров Рыцарского Креста и Объединения репатриантов, пленных и пропавших во время войны. Соответственно, с уходом основной массы ветеранов и немощью оставшихся связи разорвались, организации закрылись. Отсутствие таких объединений, как городской или региональный совет, приводило к тому, что, опросив информанта в Мюнхене, наследующее интервью можно было уехать за 400 километров, в Дрезден, чтобы потом вернуться обратно в Мюнхен, потому что информант в Дрездене дал телефон своего мюнхенского знакомого. Таким образом, за те несколько недель, что я провел в Германии, я намотал на машине более 10 000 километров. Стоимость одного интервью получилась очень большой, и если бы не поддержка компании Wargaiming, авторов игры «World of Tanks», и издательства «Яуза», то проект так и не был бы реализован. Огромную помощь в поиске ветеранов оказал Петер Стегер (Peter Steg er). Сын солдата, прошедшего русский плен, он не только возглавляет общество городов-побратимов Эрлангена и Владимира, но и собрал воспоминания бывших военнопленных, сидевших в лагерях Владимира (http://erlangenwladimir. wordpress.com/category/veteranen/). Еще один человек, который помог мне в работе, – историк Мартин Регель, занимающийся историей Ваффен СС. Он передал две записи интервью с ветеранами. В дальнейшем, увидев реакцию интернет-сообщества на выкладываемые мной интервью, он отказался от сотрудничества. В книгу также включено интервью Владимира Кузнецова. Его опыт жизни в Германии, знание реалий и языка позволили ему получить интервью, намного более информативные, чем мои. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится и в будущем и новые интервью, как и те, что вошли в книгу, будут выкладываться на сайте «Я помню» www.iremember.ru в разделе «Противники».
Отдельно хочу сказать спасибо Анне Якуповой, которая взяла на себя заботы по организации многочисленных перелетов, переездов, гостиниц. Без ее помощи работа была бы сильно осложнена.
Что касается проведения самого интервью, то, разумеется, оно было осложнено тем, что шло через переводчика, который передавал лишь общее направление разговора (в противном случае оно заняло бы в два раза большее время), и мне было непросто реагировать вопросами на рассказ и что-то уточнять. Однако переводчики великолепно справились со своей работой. Большая часть интервью была последовательно переведена Анастасией Пупыниной, которая на основе проведенных интервью будет писать магистерскую диссертацию в университете Констанца. Помимо работы переводчика, она занималась организацией интервью с ветеранами и в рамках проекта продолжает поддерживать контакты с некоторыми из них и после встречи. Помимо нее, мне повезло работать с Ольгой Рихтер, великолепно справившейся с задачей, а также переводчиками аудиозаписей Валентином Селезневым и Олегом Мироновым. В итоге этой совместной работы получились тексты, которые и по стилистике, и по информативности, и по эмоциональной нагрузке сильно отличаются от интервью с нашими ветеранами. Неожиданным оказался и тот факт, что в Германии, в отличие от стран бывшего СССР, практически нет того отличия между письменной и устной речью, которое выражается в строчке: «Одни слова для кухонь, другие – для улиц». В интервью также практически отсутствовали боевые эпизоды. В Германии не принято интересоваться историей Вермахта и СС в отрыве от совершенных ими преступлений, концлагерей или плена. Практически все, что мы знаем о немецкой армии, мы знаем благодаря популяризаторской деятельности англосаксов. Не случайно Гитлер считал их близким «расе и традиции» народом. Читая эти рассказы, рекомендую воздержаться от каких-либо оценок слов респондентов. Война, развязанная преступным руководством, отняла у этих людей лучшее время жизни – молодость. Более того, по ее итогам выяснилось, что они воевали не за тех, а их идеалы были ложными. Оставшуюся, большую часть жизни приходилось оправдываться перед собой, победителями и собственным государством за свое участие в этой войне. Все это, разумеется, выразилось в создании собственной версии событий и своей роли в них, которую разумный читатель примет во внимание, но не будет судить. Субъективность суждений свойственна всем людям. Разумеется, что субъективность воспоминаний наших ветеранов нам близка и понятна, а бывшего противника – вызывает определенные негативные эмоции: слишком много страданий принесла та война и слишком много в нашем современном обществе связано с ней. Тем не менее мне бы хотелось, чтобы, открывая эту книгу, читатель рассматривал людей, согласившихся рассказать о своей жизни, не как потенциальных виновников в гибели его родных и близких, а как носителей уникального исторического опыта, без познания которого мы потеряем частичку знаний о Победителях.
На фронт я попал в сентябре 1942 года. Пробыв в запасном полку десять дней, я рвался на поле боя. И не только я один. После первой недели пребывания в полку многие солдаты спешили на фронт. Почему? Кормежка там была намного лучше. Например, утром мы получали жиденькую кашу или гороховый суп, половину маленькой селедочки и пятьсот грамм хлеба. Также нам давали щепотку сахара и щепотку табака. Я, некурящий, менял табак на сахар.
На фронте меня, как окончившего спецшколу № 005, сразу же предложили аттестовать на офицера. Я спросил: «А как долго эта аттестация будет ждать меня?».
Потом возник другой вопрос: я написал, что родился в 1926 году. Меня вызвали и спрашивают:
— Что за глупость ты написал?
— Но я действительно 1926-го года рождения.
— Так он же еще не призывной!
— Что же делать, ведь я уже попал к вам?
— Напиши тогда хоть 1925-й год!
— Зачем мне это надо?
— Как зачем? По-другому мы не можем.
— Так это…
— Пиши 1924-й или 1925-й год и сдавай документы.
Потом мне говорили: «Ну какая тебе разница? Раз уж ты сюда попал, имеет ли значение, какой у тебя будет стоять год?» Я даже согласился, но потом спросил, сколько времени нужно ждать до производства в офицеры. Мне ответили, что два месяца. Подумав, я решил, что не выдержу так долго и отказался от этого дела. Так, старшиной, как меня прописали еще в пересыльном пункте, я пошел в саперную роту.
Возвращаясь к бытовым вопросам, отмечу, что в запасном полку никакого денежного довольствия не было. Да и какие деньги там нужны? Но вот когда нас отправляли в действующую часть (я попал в гвардейскую бригаду), то всем нам выдали по новому комплекту белья, по несколько полотенец, по портянке и куску мыла. Когда мы грузились в эшелон на станции Кавказская, некоторые из солдат, имея три часа в запасе, мигом сгоняли к местному населению и выменяли весь свой скарб на сало, водку и хлеб.
На фронте ситуация изменилась: нам стали давать денежное пособие. Я, как старшина первого года службы, получал около 60 рублей. В 1944 году, на третий год моей службы, сумма увеличилась почти до 200 рублей. На тот момент я значился командиром противотанкового орудия. И все же мое довольствие было значительно меньше офицерского оклада: лейтенант получал примерно 1100 — 1200 рублей. В 1944 году оклады солдат были увеличены. Я стал получать 450 рублей, будучи командиром орудия. И это была уже существенная, заметная сумма.
Понятное дело, что деньги на войне ни к чему, поэтому все наше довольствие отчислялось на сберегательные книжки. При демобилизации я получил баснословную по тем временам сумму — 6000 рублей.
«Студебеккеры» в резерве командования Красной армии. (wikipedia.org)
До сих пор идут споры о том, какую роль сыграл американский ленд-лиз. Скажу одно: мы, солдаты, чувствовали, что нас поддерживают извне. Для нас это имело большое значение. Приведу такие факты. Вся наша стрелковая бригада, входившая в знаменитые гвардейские корпуса, которые в начале 1942 года сражались под Москвой, прибыв на Кавказ, была одета то ли в английскую, то ли в американскую форму. Нашей не было. Какая форма?! Тогда и погоны-то были не у всех: мы ходили без всяких знаков различия.
8 августа 1943 года в лесах под Воронежем нам выдали американскую технику: «Студебеккеры», «Виллисы» и так далее. В последствии эти машины были изношены и угроблены в грязи Украины. Но тогда без них мы ничего не могли предпринять. Поэтому поддержка союзников ощущалась нами в полной мере, и преуменьшать ее никак нельзя. Кстати, первый автомобиль, за руль которого я сел, был «Студебеккер».
Конечно, от союзников все ожидали большего. Мы не понимали, почему они так долго топтались в Италии, почему боялись высаживаться там: мы вон Днепр переплыли, а они какой-то там Ла-Манш осилить не могут.
Весной 1944 года под командованием Конева, а потом Малиновского мы вышли к границе. Первый вопрос, который возник у солдат: «А зачем нам идти дальше границы? Может стоит встать тут и держать рубеж, а с немцами пусть кто хочет, тот дальше и воюет?» Нам стали разъяснять, что победить фрицев таким образом нельзя, не нужно рассчитывать на то, что они оставят нас в покое, надо идти дальше.
Когда мы перешли границу, вступили в Румынию, то увидели, как там живут люди. В наших мозгах произошел некий поворот. А ведь дело было в следующем. Лето 1944 года наш фронт провел в обороне. В наступление мы перешли только в августе: завязалось сражение под Яссами. Тогда об окончании войны мы не думали, но когда перешли границу…
Так вот, сижу я в батарее, рядом отдыхают солдаты. Один спрашивает другого: «Как ты думаешь, после войны колхозы будут?» — «Не знаю, спроси у старшины». (То есть у меня). — «Так что, старшина, будут после войны колхозы?» — «А почему им не быть? Это такой шаг вперед». Тогда я был довольно распропагандированным человеком, мальчишкой. Другой мой собеседник встал и говорит: «Да что ты его спрашиваешь? Он ведь в колхозе не жил, ничего об этом не знает». И он был прав — я являлся городским жителем.
И вот тогда я понял, что среди солдат ведутся разговоры о судьбе колхозов, колхозников. Все это их волнует и настораживает.

2-й Украинский фронт ведет наступление под Яссами. (wikipedia.org)
Проходя по Румынии, Венгрии, видя, как живет тамошнее население, мы были поражены. В политотдел доносили: «Солдаты говорят, что у них один хозяин имеет больше, чем наш колхоз». Да и как было не удивляться: комфорт, прекрасные дома (особенно в северной части Венгрии), другой быт, совершенно другая культура. Я, например, впервые увидел в доме ванну, несмотря на то, что был горожанином. Только представьте, как смотрели на нее деревенские ребята! Они ведь только слышали, что такое бывает. В тот момент нам стало совершенно ясно: чтобы так жить, нужно иметь совершенно другую атмосферу, другую материальную обеспеченность.
Источники
- Эхо Москвы, «Цена Победы»: Солдатские мемуары: война глазами рядового